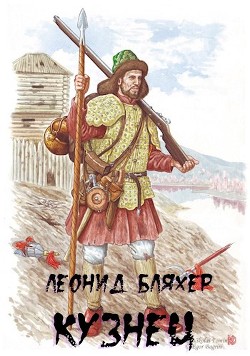В моей воеводской жизни тоже все волне благополучно. Правитель я тот еще. Ни величия, кроме роста, ни желания править. Единственное, что умею хорошо, так это дружить с умелыми людьми. Таких умелых людей я и старался собирать в Приамурье. Всяких умельцев собирал. Один мастеровой приехал из иноземной страны, из Голландии приехал. Так вот, мастеровой он оказался не очень. Точнее, то, что он умел, мне было без надобности. Повар он был. Трактиры у нас в городах, конечно, есть. Но люди, что здесь живут, к разносолам не очень привычные. Зато привез он клубень здесь не известный. В смысле, людям он не известен. Мне очень даже известен. Картофель называется или желтый трюфель. Вот этот клубень я и велел ему высаживать. Сегодня уже изрядный участок засажен. Могу позволить себе и потушить с мяском, и толчонку наделать. Многие следом за мной стали его высаживать. А голландец тот стал по картошке главный. И много такого всякого. Как-то добрел к нам китаец. Именно китаец, не маньчжур. Оказалось, что он не просто заблудился. Он родич нашего Гриши. Зовут Гао Бо. Гришка им с купцом весточку отправил. А там у них тяжкая жизнь. Он и решил к дяде податься. Посмотрел на нашу жизнь, решил не возвращаться. Думал, куда его пристроить? А он оказался мастером по фейерверкам. Для владетелей праздники устраивал с огненной потехой. У нас такого нет. Люди все попроще. Работаем, любим, веселимся, живем – все без особых затей. А вот «огненная потеха» меня торкнула. Это же порох! Спросил: умеешь делать? Гришка и перевел. Тот чуть поклонился и что-то проговорил. Но смысл понятен – умеет. Так мы и с порохом оказались. Порох, скажем откровенно, не особенно хороший. Но свой, а это просто супер!
Одно странно, старик мой, который дух, уже давно не показывается. Ни в каком виде. Ни кисой не является, ни человеком не показывается. И не успел я огорчиться этому, как той же ночью он пришел. Стоит такой довольный на бережке реки. Хоть видно, что старик, только будто из хорошего санатория вернулся.
– Давненько – говорю – не виделись. Как там твоя лыжня? Скоро уже кончится?
А он смеется. И раскатисто так, аж эхо по реке заметалось.
– Ты, лягушонок, уже давно уже не по моей, а по своей лыжне идешь. Она тебя тянет.
– Что же ты – говорю – громы молнии не кидаешь?
– А зачем? Лыжня у нас разная. Только идем мы к одному зимовью. Ты стал сильным. Пока был слаб, я помогал. Теперь ты уж сам. Да и осталось недолго.
Сказал и исчез. Больше ни разу не показался. Ничего, мне по своей лыжне идти приятнее.
У нас с Людой тоже все было тихо, мирно и, страшно сказать, счастливо. Андрейка рос здоровым и задиристым парнем. Старался во всем быть первым. В шалостях тоже. Потому ему часто доставалось. Даже не от Люды, которая в первенце души не чаяла, а от Меланьи, ставшей постепенно частью нашей семьи. Бывает такой статус – добрая тетя из Бердичева. Сам видел. На четыре года я сделал ему деревянную саблю. Теперь он каждую свободную минуту кого-нибудь рубил. Хорошо, если куст или забор. Хуже, если цыпленка, особенно чужого.
Через два года после Андрейки родилась Мария. Пока еще совсем маленький медвежонок, важно ковыляющий из комнаты в комнату. Чем-то наша жизнь напоминала привычный облик советской семьи, насколько я его помнил. Утром мы быстро завтракали, немножко занимались детьми и «убегали на работу». Я шел в приказную избу, а Люда… У нее тоже появилось дело. Потихоньку она освоила местное письмо, вросла в здешнюю жизнь. И решила открыть школу для ребятишек. Тоже нужное дело. Если мы собираемся здесь не на год или два, а навсегда оставаться, грамотные люди нам понадобятся.
Кстати сказать, она оказалась очень неплохим организатором. Малышей учила сама писать и считать. Учила названиям месяцев, годов. Названия и назначение трав им рассказывала. Про всякие дальние страны. Обязательно рассказывала сказки. Детвора слушала, открыв рот. А для ребятишек постарше она приглашала учителей. Кузнецов, стрелков, плотников. Даже художника моего таскала, когда он на русском говорить научился. Правда, учеба длилась мало. Три урока в день. Дети же здесь были не просто цветами жизни, а вполне ощутимым трудовым ресурсом, отказываться от которого их родители не собирались. Плавала она и в Благовещенск, чтобы тоже школу открыть. К слову, теперь по Амуру, Шилке и Зее ходили почтовые суда. Отправлялись регулярно. Возили почту и людей. Для срочных сообщений использовали голубиную почту.
Временами и мы садились на такой корабль, чтобы навестить старшего воеводу. Афанасий Истомыч, как он сам назывался, нам радовался. После нескольких лет отчуждения, сошлись мы и с его супругой, Феклой. С сыном сойтись не успели. Пашков отправил его к государю, в Смоленский лагерь. Не помню, было ли такое в прошлой истории, но здесь – факт. Пашков много рассказывал о периоде, известном нам, как Смутное время.
Интересно, когда смотришь из далекого будущего, то кажется, что эпоха была, хоть и трудная, но понятная. Вот эти – хорошие, вот эти – плохие. Но для современника все иначе. В его рассказах не было ни хороших, ни плохих. Даже царевич Владислав, против которого он держал оборону, по его словам, был мудрым и осторожным правителем, хоть и католиком. Именно последнего и не мог принять и простить Пашков. В вопросах веры он был жестким донельзя. Поскольку я здесь был то ли Пномпень, то ли пень пнем, то предпочитал слушать и помалкивать. С огромным интересом слушал я и про царский двор, про дворцовые кланы. Этого я не изучал. А знать было надо.
Как-то так сложилось, что за все время своего попаданства я только дважды выезжал за пределы будущего Дальнего Востока. Один раз ездил в Тобольск с челобитной к архиепископу. Нужны мне были еще священники. Поскольку лицо я теперь был официальное, пришлось наносить визиты всем тобольским властям, поклониться и тобольскому воеводе. Ничего, не переломился. Всех одарил и, кажется, не с кем в конфликт не влез.
Один раз ездил в столицу. Собственно, вез ясак с изрядной долей золотых «богдойских денег». Нужно было объяснить их появление. Напел сказку, объяснил. За собранный ясак был удостоен аудиенцией с князем Трубецким, на тот момент – судьей приказа. Честно сказать, побаивался. С опыта общения с высокими боярами у меня не было. Но обошлось. Был обласкан, пожалован в дети боярские. Точнее, жаловал государь, но представлял князь.
Теперь, в статусе воеводы, мне и вовсе кирдык. Поклонишься не так, пойдешь не с той ноги, заклюют. Потому и предпочитал я оставаться дома, в Приамурье. Да и возраст подходил за сороковник. По здешним представлениям переходный возраст… с этого света на тот. Есть у меня разведка, пусть и работает. Но знать было нужно. Люда же скучала без поездок. Потому каталась с большим удовольствием. А поездки в Нерчинск просто любила. В годы службы в советской армии довелось мне побывать в Нерчинске. Может быть, я чего-то не рассмотрел, но город мне не понравился. Заброшенный и неухоженный уездный город. Наш Нерчинск был лучше. Острожек уже превратился во вполне пристойную крепость. Вокруг нее постепенно сложилась слобода. Наши караваны, а также караваны купцов, идущих к нам, делали стоянку в Нерчинске. От них и шел доход местным торговым людям.
Одно было грустно, от раза к разу Пашков был все слабее, все чаще заводил разговор, что хотел бы он уйти из мира, молить о прощении грехов. Ну, что тут скажешь: старость – грустная штука.
Но это, если мы куда-то ездили. Обычно же, сделав дела, пробежав по городу, на верфи, на пристань, в мастерские, прочитав письма от приказчиков из Благовещенска, Албазина, из других крепостей, приняв просителей, обсудив планы с ближними людьми, я стремглав несся домой. Там было хорошо, как хорошо может быть только в твоем доме.
И лучше всего было вечером, когда, пожелав детям доброй ночи, мы уединялись в нашей горнице. Конечно, там было все, что бывает у любящих друг друга мужчины и женщины, но не только. Там мы выстроили наш мир. Для нашей горницы я заказал особую мебель. Долго объяснял недоумевающим мастерам, чего я, собственно, хочу. Теперь здесь, кроме кровати стояли удобные, насколько возможно, кресла, было печка, которую мы называли камином. Почему? Так хотелось. Были долгие разговоры о прошлой и будущей жизни, воспоминания о двух наших Хабаровсках.