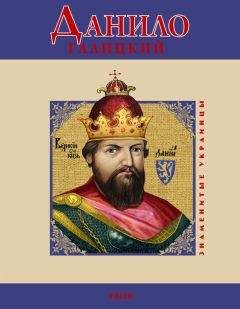Ознакомительная версия.
– По-твоему, если бы я подписался в письме: «Богдашка Хмель», московский государь явил бы нам ласку свою и защиту? – горько усмехнулся гетман.
– Избави боже! Просто… Даже не знаю, как лучше сказать… Другие они, пане гетмане! Совсем другие. И власть царская там тверда, прекословия не терпит. О вольностях шляхетских на веки вечные забыть придется… Да и Войску Запорожскому прежней жизни не будет. – голос Выговского стал вкрадчивым. – Прости за прямоту, пане, но я оказал бы плохую услугу, отплатил бы злом за добро твое, если бы начал лгать и не говорить того, что думаю.
– За откровенность твою я особо ценю тебя, ты это знаешь. Продолжай!
– Так подумай сам, пане гетмане: а если это уклончивое письмо – Божий знак? Раз царь в Москве то ли трусит, то ли попросту не желает помочь, может, нам не полагаться на него, а воспользоваться удобным моментом и принудить Сейм к переговорам? Именно сейчас, когда коронное войско разбито в прах, когда Львов вот-вот согласится на сдачу, всюду царит паника и разброд, можно вытребовать выгодные условия мира! Такие условия, о коих пан гетман и не мечтал, поднимая прапор[56] свой в Сечи!
Хмельницкий мрачно усмехнулся:
– Чего же нам требовать, по-твоему?
– Во-первых, увеличения реестра. Пусть будет он не меньше, чем двадцать тысяч, или даже тридцать. Во-вторых, прекращения всех нападок на веру нашу. Чтобы храмы православные впредь не закрывались, в аренду никому не сдавались. В-третьих, изгнания иезуитов из воеводств русских на вечные времена. В-четвертых, чтобы коронному войску туда доступа не было без дозволения твоей милости. В-пятых, пусть Сейм утвердит звание твое. В-шестых… Ну, можно даже потребовать, чтобы все должности в землях, находящихся под твоей властью, занимали только православные.
– И это все? – поднял брови Богдан.
– Да разве же этого мало?! – искренне изумился Выговский.
– С одной стороны, немало. И вправду, еще полгода назад я о таком даже не мечтал! С другой же… Вот скажи, Иване, а как же поспольство? Тот бедный, замученный и униженный народ, который поверил мне, поднялся на борьбу за права свои, за веру нашу святую. С ним как быть? Ведь даже если спесивые паны в Варшаве согласятся утвердить те условия, что ты перечислил, хотя это будет настоящим чудом, простой народ-то от них ничего не получит!
– Ну как же… Веру притеснять никто больше не станет, в храмы смогут ходить спокойно.
– А потом, выйдя из храмов, снова под панские кии[57] да канчуки? Ведь паны наверняка потребуют возвращения в свои маетки! И уж там развернутся вовсю, сомнений нет. Народ для них всегда был пылью под ногами, быдлом! Они за страхи свои, за обиды с лихвой отыграются! Об этом ты подумал, пан генеральный писарь?
Наступила нехорошая, зловещая тишина. Выговский нервно покусывал губы.
– Да, пане гетмане! Много раз я об этом думал… – произнес он наконец с явным волнением. – Позволишь ли сказать откровенно, даже если слова мои, не дай боже, вызовут твой гнев?
– Позволяю. Говори, гнева не бойся.
Генеральный писарь вздохнул, развел руками с видом человека, идущего на трудное и рискованное, но совершенно необходимое дело.
– Ты беспокоишься о простом народе, пане гетмане, и это благородно. Но ведь всем не угодишь, а равенства меж людьми нет и быть не может! Опять же, неужели народ и впрямь поднялся лишь для того, чтобы добыть права и заставить себя уважать? Я не слепой, видел много раз, как ты, ясновельможный пане, метался, волосы на себе рвал, читая бесконечные жалобы на бесчинства да зверства! А кто их творил, не тот ли самый народ? «Поспольство будто обезумело!» – это твердили наши же полковники. И вот такому народу ты хочешь дать волю, пане? Ради него готов и дальше вести войну? На бога, не нужно себя обманывать! Я не черню всех огульно, ни в коем разе. Может, кто-то из поспольства и впрямь схватился за оружие, побуждаемый святым порывом, но сколько таких? Один-два из десяти, дай боже. А остальные-то примкнули к нам, только чтобы безнаказанно убивать и грабить. Да еще бесчестить панских жен, дочерей! Ну и как их назвать? Прости, пане гетмане, но это именно быдло. Презренное быдло!
– Перестань, не нужно так говорить! – голос Хмельницкого прозвучал резко, но в нем отчетливо слышались и неуверенность, и боль. Слова генерального писаря били по живому, растравляли ту душевную рану, которую гетман сам постоянно бередил своими мучительными сомнениями. – Людей унижали, с ними обращались, как с бездушными тварями… У них накипело! Это же пена, понимаешь? Грязная пена на вешней воде.
– Однако уже давно осень, а вода все не светлеет, и пены отчего-то не убывает. – Голос Выговского также зазвенел, налившись силой. – Кроме того, даже если с человеком обращаются, как с бездушной тварью, это не причина самому становиться скотом. На бога! – Он вдруг умоляюще сложил руки на груди, подавшись к Богдану. – Пане, заклинаю, не нужно ради них рисковать, тратить силы и драгоценное здоровье! Ведь не оценит же народ, ничуть не оценит! Пан гетман еще кругом виноватым окажется! Идеал недостижим, как горизонт, надо уметь вовремя остановиться! Тем паче сейчас, когда все козыри… – генеральный писарь осекся, раздраженно поглядел на откинувшийся полог.
В палатку буквально вбежал джура.
– Пане гетмане! – закричал он, успев опередить Хмельницкого, готового взорваться от гнева. – Полковник Кривонос… Скорее, ради Христа! Тяжко ранен он, просит пана гетмана, чтобы успеть проститься!
– Максим?! – взревел Богдан и схватился за виски. – Да как же… Где он?! Веди, быстро!
Вскочив, он поспешил за джурой. Не заметив, что сложенный в несколько раз лист бумаги от резкого движения выпал из его кармана.
Выговский, сделав вид, что спешит следом, задержался на несколько мгновений, торопливо развернул, вчитался в первые строки… Потом снова придал бумаге прежний вид и, оставив на ковре, выбежал наружу.
«Объявилась, змея… Тьфу, вот не было печали! Она же может все испортить! Ладно, она пока еще далеко, а там видно будет. В крайнем случае постараюсь, чтобы гетман ее приревновал… К кому? Гарных хлопцев хватает. Да хоть к сыну своему, Тимошу!»
* * *
Высокий замок пылал, подожженный казаками Кривоноса. К подножию горы, где он был построен, согнали толпу пленных шляхтичей и жолнеров, заставляя спускаться по крутым тропам чуть ли не бегом, хотя многие из них были ранены и с трудом держались на ногах. Поляки старались сохранить достоинство и спокойствие, несмотря на изнеможение и испуг. Кто-то даже смотрел на казаков с высокомерным презрением, но в глазах большинства была равнодушная, безнадежная обреченность…
Ознакомительная версия.