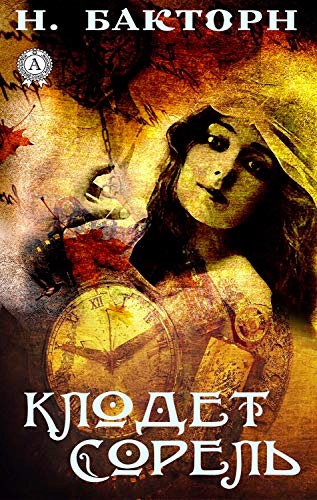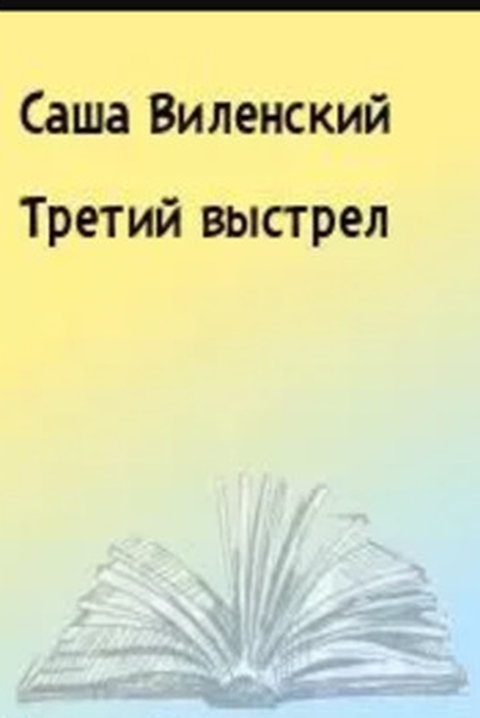что в 16?!» И ей становилось дурно от того, что жизнь проходит бессмысленно.
В Самару приехал московский театр. Весь городской бомонд, расфуфырившись, надушившись отвратительными сладкими духами, отправился в театр на Дворянской — смотреть спектакль из купеческой жизни. Ну, а что еще должны были привести в их город из старой столицы? Ясное дело, только про купцов.
Но Клодет неожиданно понравилось. Особенно тонкий ироничный актер, игравший Жадова. Симпатичный такой. И она, немея от собственной отчаянности, решилась. После спектакля у служебного выхода кружили в нетерпении поклонницы с ужасными толстыми букетами цветов. Глупость какая. Клодет всем своим видом старалась показать, что она к этим идиоткам не имеет никакого отношения, у нее свой интерес! Нервно теребила тетрадь со стихами: а вдруг произойдет чудо и он скажет: «Это прекрасно! Вам надо писать! Вы — талант!». И очень боялась, что он равнодушно пожмет плечами и пробормочет что-то вежливое. Ужасно. Это будет ужасно. После этого незачем будет жить.
Молодой актер вышел, идиотки завизжали и ринулись к нему. Он благосклонно принял букеты, подписал несколько афишек, и когда толпа поклонниц заметно поредела, к нему с деланно равнодушным видом подошла и Клодет.
— Я бы хотела показать вам кое-что из написанного мной, — строго сказала она.
Он внимательно посмотрел на нее, и даже в неярком свете газового фонаря стало видно, что он далеко не так молод, как казался, и что у него печальные глаза все в морщинках.
— Девушка, милая, я всего лишь актер, я ничего в этом не понимаю.
И она растерялась.
— Так кому же мне показать?
Он пожал плечами.
— Я не знаю, красавица. Попробуйте почитать нашему режиссеру, он в этом уж всяко больше моего смыслит.
— И как мне его найти?
— Ну, как? Или в театре, или в гостинице. Скажите, что это я вас направил.
Она кивнула, судорожно сглотнув.
Еще не хватало! Отправиться к мужчине в гостиницу!
И тут же разозлилась на себя: чем она лучше этих купеческих клуш? Такая же ханжа, как и все, так же дрожит: а что про нее скажут?! Выше этого надо быть, художник должен быть свободен от этих глупостей! И, чувствуя себя Ифигенией, добровольно всходящей на жертвенник, отправилась наутро в гостиницу.
Как она потом смеялась над той зажатой провинциалкой, которой была!
Все оказалось проще, чем она думала. Никто не стал тащить ее в номера, чтобы немедленно овладеть, сорвать, так сказать, цветок невинности. Режиссер, плотный мужчина средних лет, с дурно повязанным галстуком, спустился к ней в холл, взял тетрадь, сказав, чтобы приходила завтра вечером, он, конечно, почитает и непременно выскажет ей свое мнение.
— Как вас зовут? — поинтересовался он.
— Клава, — по привычке ответила она, и тут же выругала себя. «Клава!». Хоть бы Клавдия! И добавила — Клавдия Сорокина. Клавдия Серафимовна.
Думала выйдет солидно, а вышло ужасно глупо.
— Очень приятно, Клавдия Серафимовна, — кивнул он. — Я — Даниил Петрович Десницкий.
И довольно бесцеремонно оглядел ее с головы до ног, отчего она покраснела. И опять возненавидела себя за этот стыдливый румянец.
— А вы никогда не думали о том, чтобы стать актрисой, а, Клавдия Серафимовна?
У нее пересохло во рту. Вот оно!
— Думала, — она старалась держаться свободно, но чувствовала, что выходит не свободно, а развязно.
— Что вы говорите?! — изумился режиссер. — А что же вы умеете представлять? Поете? Танцуете?
— Я пою, — снова получилось неловко.
— Но это же прекрасно! Я могу вас послушать?
— Если хотите.
— Мечтал бы, — он галантно поклонился. Неужели он над ней издевается? Или все же пытается соблазнить? А может все проще, и он взаправду ищет певицу?
— Так как? — он настойчиво смотрел на нее.
— Да хоть сейчас, — она не верила, что сказала это.
— Тогда пойдемте.
Он провел ее в общую гостиную, где стоял рояль. Открыл крышку, придвинул скамеечку, сел, положив руки на клавиши.
— Что бы вы хотели спеть?
— Я, знаете ли, пишу песни сама, — ей по-прежнему казалось, что все это происходит не с ней. В голове было мутно, и она — очень странно! — видела саму себя, как бы со стороны. Это она, Клава Сорокина стоит перед московским режиссером и будет ему петь свои стихи? Или это рождается новая звезда, Клодет Сорель?
— И музыку сами пишете? Что вы говорите! — снова удивился режиссер. «Интересно, это он искренне удивляется или актерствует», — вновь подумала она. Но только кивнула в ответ.
— Прошу! — он уступил ей место у рояля, но она помотала головой. Играть она не умела. Зато голос у нее был сильный. И природный слух. Не фальшивила. Десницкий даже удивился.
— А ведь вы и вправду хорошо поете! И голос у вас сильный, интересный. Слова, конечно, слабенькие, но поете хорошо. Очень хорошо. На чьи стихи этот романс?
— На мои.
— О, Господи! Простите, ради Бога, я вовсе не хотел вас обидеть! — режиссер засуетился. — Единственное, что я пытался сказать — что над текстами еще надо бы поработать.
Это она и без него знала.
Домой летела, восторженная. Даже Юля не раздражала своим вечно несчастным видом. Завтра у нее прослушивание перед труппой. Правда, Десницкий назначил его на то же время, что и занятия в гимназии, но кому теперь сдалась эта гимназия? Пропустим один день, ничего страшного!
Главное, ничего никому не говорить, а то сглазишь. Хотя так и распирало не говорить — кричать!
Режиссер был крайне любезен, представил ее труппе, сообщив, что разыскал на волжских плесах истинный самородок, прекрасную певицу с огромным будущим. А сейчас он хотел бы вместе с ней показать несколько песен и романсов, может быть их получится вставить в спектакль, который они сейчас репетируют — новую пьесу Мориса Меттерлинка [5] «Мария Магдалина».
Клодет не верила. Просто не верила. Так не бывает. Не бывает такого везения.
— Нет, конечно, с Клавдией Серафимовной придется позаниматься, — продолжил Десницкий. — Но я уверен, что она сможет стать частью нашего дружного братства.
Боже, как Клодет трясло! Она же не сказала им, что еще гимназистка! Ей же до окончания осталось всего-ничего, какой-то месяц. Но разве можно выбирать — гимназия или театр? А как же мама? Папа? Что с ними будет, когда они узнают? Да ничего не будет, неожиданно
злобно подумала она. Переживут. Жизнь моя, живу ее — я, и живу только один раз. Кто позаботится о моей судьбе, если не я сама? Конечно, надо бежать с театром! О чем тут думать-то вообще? Неужели, неужели сбывается?
МАРИЯ. ТОБОЛЬСК, ВЕСНА 1918
Это ужасно, в таком