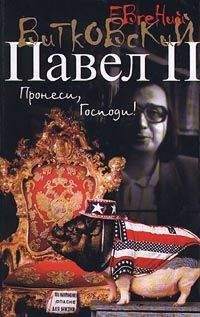— Ивистал Максимович, — сказал он, — это еще не все. Успех «Ильича в Афинах» явно вскружил ему голову. Браун объявил о выходе всех четырех романов под одной обложкой в английском переводе, а в марте обещал издать «Ильича в Виндабоне». Так это будет называться.
— Сволочь, — глухо сказал маршал, — еще и в Бонне. Гнида пятизадая.
— В Виндабоне, — продолжил капитан, — это значит, в Вене. Древнеримское название. Это про то, как его Ильич в поздней Римской империи революцию делает. — И тот же Браун объявил, что шестой роман будет происходить в Японии девятого века. И нет никакой надежды, что на шестом он угомонится. Он гребет деньги экскаватором. Но в Финляндии его запретили.
— Ну, это земля нашенская, — так же глухо сказал маршал, и большие пальцы его, прекратив вращательное движение, уперлись друг в друга и побелели в подушечках. — Но недолго ему. Шестую еще издаст, пожалуй, к лету. А седьмую хрен. Разве в неоконченном виде. Мы ее тогда сами издадим для служебного, чтобы знали, какая была гнида… О чем у него седьмая будет, капитан?
— Не могу знать, товарищ маршал. Он ведь не сам пишет. Кажется, последнюю книгу он даже и прочел после того, как ему русское издание доставили. Вы же помните, кто за него пишет. Но ведь в этом его решено как раз не уличать?
Маршал не ответил. Звезды на его погонах наклонились к окну и исчезли из поля зрения капитана. Дуликов скрестил руки на спине — как Наполеон скрестил бы на груди. Маршал знал, что у великих людей должен быть характерный жест большие там пальцы в прорези жилета, руку за лацкан, мало ли что придумать можно. Для себя маршал выбрал: руки, скрещенные на спине. И вообще любил стоять спиной к собеседнику. Не потому, чтобы был чрезмерно храбр или невиданно доверителен: просто не любил показывать лицо, стеснялся родимого пятна и вечно подтекающей слюны. Перед самим собой стеснялся, но больше перед грядущими веками. О них маршал думал постоянно. И понимал, что косметологам с этим пятном сейчас уже возиться поздно, раз уж за пятьдесят пять лет руки не дошли, звездный час вот-вот пробьет, не до косметики.
— Кроме того, Ивистал Максимович, — продолжил капитан, — «Ильич в неолите» сейчас экранизируется в Голливуде. Ильича опять играет Амур Жираф. За ту же роль в «Ильиче в 1789» он, как, может быть, припоминаете, получил «Оскара». И, кстати, за это же мы его летом не допустим на фестиваль. Кстати, еще о кино. В понедельник у американцев в посольстве просмотр очередной гадости, называется «Анастасия Первая», монархистская чепуха, не совсем безвредная: скрытая агитация в пользу Романовых. Устин Феофилович, вероятно, заявит протест. Свиноматка не реагирует.
— Все у тебя? — спросил маршал, давая понять, что ни министр культуры, ни фильмы в посольствах недостойны его внимания.
— Так точно.
— Тогда езжай. До Наро-Фоминска в багажнике, дальше сам знаешь.
Маршал не обернулся, только раскрытая ладонь, не то правая, не то левая, иди пойми, когда человек руки бантиком сложил на спине, — дала капитану понять, что на сегодня все. Сухоплещенко собрал бумажки и отдал спине маршала честь, чего, видимо, можно было и не делать. Это потом будут игры в солдатики, когда они власть возьмут. Сейчас не до того, сейчас маршал собирается всех к ногтю. К тому же почти три часа езды до Наро-Фоминска в неудобной позе, оттуда еще больше двух часов до Москвы, так что не раньше одиннадцати вернется капитан к своему шефу. Впрочем, кто из двоих на самом деле его шеф — капитан точно сказать бы не взялся, он честно шпионил за каждым и каждому доносил. С одной стороны, Ивистал был сильной личностью, импонировал ему лично и обещал больше, но вряд ли оставит в живых, когда нужда отпадет, да и хохлов терпеть не может, — но с другой стороны, ведь провались его затея, так его, капитана, тоже первым утопят. А человек, который в беседах с маршалом непочтительно именовался свиноматкой, мог и пожаловать чем-нибудь, и помиловать, но нешто можно быть вообще в людях такого ранга уверенным. Так и сидел капитан между двух стульев, — на досуге же, насмотревшись на житье-бытье и привычки шефов, закупал антиквариат.
Завелся мотор под окном, черная «волга» с капитаном в багажнике и личным шофером Ивистала исчезла бесшумно в услужливо распахнутых воротах. Хозяин дачи остался один. Если бы маршал с тех пор, как его единственный сын погиб в Африке, не начал плести интриги, ему вообще, вероятно, нечего было бы делать. Лишь благодаря интригам жизнь его обретала смысл и была исполнена чувства высочайшей ответственности перед собой, перед грядущими поколениями и перед светлой памятью незабвенного Фадеюшки.
Ивистал, будучи моложе советской власти на девять лет, приходился ей родным сыном. Натуральных родителей, известных в городе Почепе, том, что на реке Судости, партийных работников, вспоминал мало — жили они там, на берегах этой самой речки, по сей день, и никакой роли в маршальской жизни не играли ни в прежние годы, ни в нынешние. О годах детства и юности маршал вообще почти не вспоминал, хотя, несомненно, многие впечатления тех лет — и особенно кое-какие обиды — наложили на его судьбу неизгладимую печать, кое-кому испортили жизнь, кое-кому пресекли таковую, а кое-кто еще за кое-что должен будет оной расплатиться довольно скоро. Наверняка должен будет — по меньшей мере один человек. С другими уже все закончено. Хотя и то правда, что на покойников маршал Ивистал Дуликов зло тоже таил подолгу, ни одного покамест еще не простил. Маршалом танковых войск был он уже десятый год, два шефа над ним за это время сменилось, — отчего-то именно министры обороны из советской номенклатуры чаще других играли в ящик, всего заметней эти кончины были для населения столицы, когда почти на сутки перекрывалось движение на улицах и очередного маршала Советского Союза в порошковой расфасовке закладывали в очередную, предварительно буренную в кремлевской стене нишу. Давно уже снились Ивисталу кошмарные сны; видел он их часто и помногу, желчная мечтательность покоя не давала, любовь к интригам, а также и развившаяся в последние годы привычка вести про себя бесконечный монолог, обращенный к покойному сыну, виделось ему в этих снах, будто живет он тысячу лет, все заместителем и заместителем, а верховные над ним сменяются чуть ли не каждые полдня, вся кремлевская стена уже облицована плитами и заштукована прахами, по периметру, во много ярусов, до зубцов, а потом и с внутренней стороны тоже во много ярусов, до зубцов, и в самих зубцах потом дупло к дуплу, — и, наконец, источенные бесконечным бурением под прахи стены от ветхости рушатся, ветер метет по улицам отчего-то вовсе опустевшей столицы высокопоставленные прахи его бывших начальников и заметает этими прахами его, Ивистала, не удостоившегося почетного прахования, — тогда он кричит и просыпается в холодном поту, и даже, кажется, в холодной пыли, очень на эти самые прахи похожей. Может быть, именно поэтому маршал даже и не очень лез в министры, не торопился в прахи то бишь. Он хорошо чувствовал себя в живых заместителях, а на повышение был согласен лишь на такое, чтобы сразу через чин.
Войну Дуликов кончил не в мае сорок пятого, а на месяц позже, ибо лежал в госпитале. Закончил полковником, хотя и было ему тогда только девятнадцать лет с маленьким хвостиком, а воевал он из этого времени как раз только хвостик два месяца семь дней. В первых числах мая он был младшим лейтенантом, но, когда форсировали Влтаву, чуть не утонул, утопил и снаряжение и оружие, все утопил, выплыл все-таки, шестью часами позже, чем надо, но выплыл, притом на тот самый берег, на который направлялся первоначально, — и сам этому очень удивился. А когда вылез из воды, то увидел чей-то бесхозный шмайссер, решил взять его как трофей: человек без штанов, однако со шмайссером — все-таки уже не совсем голый, уважение к нему другое. Взял он шмайссер, и тут на него рухнула какая-то полуголая туша, и тушу эту Ивистал очень удачно двинул под дых. Потом, ясное дело, связал он тушу и отконвоировал в ближайшую часть, причем, на счастье, не в свою, а в чужую. А там оказалось, что арестовал он не простую тушу, а военного преступника, власовского полковника Пенченко, того самого, которого через год во дворе тюрьмы в Москве повесили на рояльной струне, — хоть и говорил полковник, что добровольно уже три дня как борется с фашизмом, да не помогло ему это, — а вот Ивисталу это происшествие в его дальнейшей судьбе очень помогло. Документы у него были утрачены, но проявленный героизм налицо, и на радостях, что такую крупную шишку изловили, согласились смершевцы в этой чужой части документы ему восстановить. И когда оформлявший их смершевец звание у Ивистала спросил, тот вдруг побледнел и рухнул в обморок, успев пробормотать что-то странное: «Под ним я был…» Разглядели потом, что у парня зрачки разные, — заработал Ивистал сотрясение мозга, ушибившись о толстый живот Пенченко. Смершевец вылил на парня четверть стакана воды, переспросил, а Дуликов костенеющим языком повторил: «Под полковником…» Так подполковником и записали, а когда из госпиталя вышел, от контузии оправившись в июне, Ивистал узнал, что ему присвоен следующий чин и приказ уже утвержден: в самом деле, не век же проявившему героизм подполковнику сидеть в подполковниках. Дуликов спорить не стал и вовсю занялся сбором репараций. Не он один, правда, усердствовал в освобожденной Чехословакии в этом направлении, но все же отломилось ему немало, по большей части бронза из Градчан, но и красное дерево кое-какое тоже, а его Ивистал полугодом позже очень удачно у одной русской народной певицы опять же на бронзу сменял. А в сорок восьмом, уже не в Чехословакии, женатый уже, так же удачно курочил Дуликов и неразоружающихся львовских униатов, усадьбы гуцульские в тех краях серебряной чеканкой богаты были; тем временем он рос в чинах очень быстро, стал в сорок девятом самым молодым советским генералом. Жена разобъяснила, что не одну бронзу брать надо, что и мрамор тоже вещь хорошая, и картины всякие с живописью; пожалел Ивистал, что картин в прежние годы не брал, а когда в скором времени попал в Корею, то там картин, увы, как раз не оказалось, только и разжился, что резным деревом и коврами, еще, правда, мехами и золотом, но последнего взять удалось маловато. Только и перехватил картин с полсотни в Венгрии в пятьдесят шестом, когда очередной чин получил, но ими опять-таки с начальством делиться пришлось. Так что по картинам у Ивистала было слабо. Да и не любил он их, не понимал всей этой живописи голой с пастушками и задницами. Когда же снова в Чехословакию попал, то обнаружил, что взять там почти нечего. Зато стал он в тот год маршалом. Отбыл тогда очередной бедолага на Новодевичье, не дослужившись даже до звания кремлевской пригорошни праха, так вот и досталось Ивисталу звание маршала танковых войск.