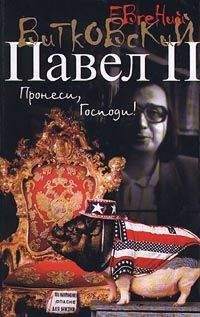Павел же и в самом деле сильно изменился, думал в самом деле все больше и больше. Каким-то десятым, меланхолическим чувством понимал Павел, что править Россией, этим чуть ли не в пыль распавшимся колоссом, ему все-таки придется; будь Павел знаком хоть с одним предиктором, он бы знал, что знание будущего, даже приблизительное, и хандра — вещи неразрывно связанные. Хочешь не хочешь, а дикая, непосильная ответственность рано или поздно ляжет на его узкие плечи, придавит залысый романовский лоб не одною только мономаховой шапкой, — цела ведь у них, поди, в Алмазном фонде, если только в Швейцарию не продали да на презервативы в Японии не истратили, с них станется, — придавит страшной, неимоверной ответственностью за голодные толпы в сотни миллионов голов. А мусульмане, которых, как он все по тому же Джеймсову приемнику слышал, в СССР больше, чем в любой ближневосточной стране? А евреи — опять же? Не загонять же их в черту оседлости и не выгонять же в Израиль? Но и полную свободу как им дать, как же без процентной нормы: они ведь тогда и впрямь в два счета в стране все ключевые посты займут, как в Турции, говорят, армяне перед геноцидом? А грузины, которые все подряд на Сталина молятся, — так полагал Павел, хотя среди его друзей и знакомых по странному совпадению ни единого грузина не было. А Украина, небось, опять отделиться захочет? С Китаем что делать? Даже с сестрой Софьей что делать-то, она ведь пронюхает теперь, нюх имеет волчий, она же всех продаст и все на книжку сложит, всех с кашей съест, она же править захочет! Она же кого угодно взбунтует, она ж Мария Спиридонова настоящая, она ж, небось, уже Софьей… Второй себя считает! От совпадения своего порядкового номера с Софьиным Павлу стало неприятно, даже сомлел он малость, но вовремя подоспевший Джеймс вылил на него шайку холодной воды, и Павел снова пришел в себя. Так вот. А с монополией на водку как быть?
Колесо таких вот и подобных мыслей вращалось в голове Павла круглосуточно. Знай об этом Джеймс, или, скажем, Форбс, они не чувствовали бы себя так спокойно касательно судьбы всей операции «Остров Баратария», касательно всей работы по реставрации Дома Старших Романовых. Но мысли Павла читать было пока некому, кроме ушедшего в глубокий запой Джексона, а тот уже языком не ворочал который день. Знал о них только меланхоличный голландский блондин у себя на ранчо в Орегоне; в Скалистых горах ван Леннеп начинал кашлять, поэтому жил от всего института отдельно, за бетонной стеной высотой в тридцать футов. Впрочем, разглашай эти мысли, не разглашай, все будет, как будет, а только станет уж и вовсе неинтересно. Вот он и не разглашал. Ван Леннеп иногда умалчивал кое о чем. Чтоб со скуки не помереть.
И снова где-то в мире что-то происходило. Где-то на далеких задворках московской Капотни, куда и опытный таксист не знает заезда иначе как с кольцевой автодороги, в большом кубическом здании почти без окон, зато с очень высокой трубой, совсем потерявшийся человечек, в прошлом врач-бальнеолог, а нынче уж и не врач, а черт знает что такое, возглавляющий это самое похожее больше на кенотаф, чем на дом, учреждение, просматривал в предновогодней спешке пухлую папку, присланную из Сухуми с секретным курьером, а в папке лежали сравнительные графики частотности удач получения искусственного инфаркта у южноафриканских павианов в зависимости от времени года и сортности пищевых бананов, рядом лежали другие папки с графиками по другим обезьянам, и с грустью думал человечек, что вот и еще один Новый год встретит он тут же, на боевом посту, исполняя спешное задание Родины. Где-то далеко в восточно-сибирской тайге лязгал напильник, ударяясь о два других, позванивал, словно древесина промерзшего кедра, рождая эхо дальних голосов, — а примостившийся рядом еще молодой и почти красивый человек, лицо которого портили неистовые глаза и ороговевшие складки по обеим сторонам узкогубого рта, прислушивался к напильничному позваниванию и молчал, молчал уже больше десяти лет, и копил — нет, не копил, некуда было дальше копить, в душе не вмещалось, — а лишь берег в себе, чтобы, не дай Бог, не расплескать ни капли, свою великую ненависть к одной, совершенно определенной части человечества, собирал в клинок свою волю, закаленную, как закаляли некогда клинки в Дамаске, погружая их в тело живого врага, и твердо знал, что отомстит за свою истребленную молодость, отомстит даже не по еврейскому закону «зуб за зуб», нет, из расчета не меньше как тридцать два зуба за каждый выбитый, выпавший от цинги, сгнивший от вонючей баланды зуб, еще не знал, как именно, но знал: отомстит. Где-то в жаркой и отвратительной северноафриканской тюрьме, в камере, не имеющей другого входа и выхода, кроме как через дыру в потолке, задвинутую сейчас душной деревянной плитой, сильный и большой, преждевременно состарившийся человек вот уже седьмой год ничего не ждал от людей, лишь молился Богу на смеси французского и латыни, да и то лишь потому, что знал и помнил книгу Иова, знал, что стоит Господу захотеть — и все снова вернется к нему, и большой мир, и самолеты, и поезда, и дорогие птицы в клетках, пусть не за бесценок купленные, как раньше, пусть за полную их дикую стоимость, — и не от великого герцога будет исходить избавление, если придет оно, нет, только от Бога, сотворившего весь род людской, а на радость людскому роду — огромных синих с золотом птиц, вот уже много лет реющих над узником, в бреду горячечных снов остужая чело ему взмахами распростертых лазурных крыльев. Где-то в тысячах километров от этой тюрьмы, в просторной, хотя уже давно тесной для жильцов квартире, именно такая птица, огромный синий и золотой попугай с ласковым и смешным именем, сидя на спинке старинного кресла, точил клюв о бронзовую завитушку, вправленную в дерево, но, впрочем, из него почти уже выломанную, а горестный от своего европейского несовершеннолетия мальчик, грустно разговаривая с птицей, мысленно топтался в совершенно неподходящем для отпрыска хорошей советской семьи месте, в круглом скверике, обсаженном деревьями, на которых вызревают к осени кислые и мелкие райские яблочки, фонтан посреди скверика действует редко, зато на скамьях вокруг него почти всегда отсиживается дикое количество транзитных пассажиров с разным барахлом в сумках и саках, но к вечеру транзитчики редеют, вместо них появляются малозаметные постороннему взгляду юноши, ведущие себя умеренно-вызывающе, и знакомство с ними сулит не одни только чудные мгновенья, а и основательное, в случае неосторожности, знакомство со всякими неприятными диспансерами, с уголовным кодексом, и даже, есть слух, еще с чем-то похуже. Где-то на плохо укатанном старенькими шинами единственного колхозного газика проселке, вне пределов видимости для какого бы то ни было человеческого общества, сидела на брошенном возле дороги бревне босая женщина в обносках цыганского вида, хотя и явно не цыганка, с изрядной сединой в волосах, хоть еще и молодая, — уставясь в одну точку где-то в зените, выкрикивала она проклятия пополам с пророчествами, горькие и страшные слова, не слышимые никому в мире, кадык ее ходил ходуном, в горле застревали слова, по щекам текли быстро замерзающие слезы, а возле ног ее сидела молоденькая свинка, насторожившая, как собака, уши, слушала, похоже, выклики женщины. Где-то в главной больнице не самого большого из южно-украинских областных центров секретарь местного обкома, лежа в реанимационной палате, не видел даже снов, ибо, хотя сердце его продолжало еще работать и никто не имел права отключить заставляющую его пульсировать аппаратуру, не став при этом убийцей, каковой ответственности на себя брать, естественно, никто не хотел, было это просто невыгодно, потому что, пусть мозг секретаря и подвергся необратимым изменениям, да и почки второй год как не работали, о восстановлении двигательных и прочих функций даже речи не могло идти ранее Страшного Суда, в который секретарь, будучи атеистом, не верил даже при жизни, — но все же секретарь не был освобожден от занимаемой должности, местное начальство меньших рангов ездило к нему на прием за советом, ожидало в коридорах больницы, не допускалось к прихворнувшему начальнику, но все равно считало свои решения одобренными свыше ввиду молчаливого согласия руководства, — промолчал же начальник, не возразил же! — а смотритель медицинской аппаратуры при больном нежно упаковывал в свой портфель обкомовский новогодний паек, собираясь домой к семейному столу, зная, что до послезавтра с секретарем не случится ничего хуже того, что уже случилось, сердце не остановится, потому что и так давно не бьется, а за прочее он, как врач, не в ответе вовсе. Где-то в совершенно пустой подземной лаборатории, удрав из рабочего кабинета, тщательно запершись от нескромных глаз, некий глубоко презираемый начальством полковник с лупой в руках рассматривал поднесенный ему к Новому году почтительными подчиненными коллекционный подарок: редчайший деревенский, конца шестнадцатого века, похоже, деревянный вологодский валек, притом с необычно тонкой резьбой на ручке, жаль, со следами жучка, но жучок это ничего, это реставраторы уберут, а для профударения мы его использовать не будем, пусть такая редкость висит в гостиной, в коллекции, на видном месте, а подчиненных за жучка и пожучить можно, чтоб старались больше, ведь вот могут же и такую редкость найти, ну, а то, что начальство его, полковника, в грош не ставит, так ведь это истинному коллекционеру нипочем. Где-то далеко от этого подземелья, в северном, якобы туманном, а на самом деле довольно солнечном городе, — солнечном, по крайней мере, по сравнению с градом Петровым, — в тесном кабинете сидела и дожидалась оформления кое-каких формальностей немолодая, но на редкость представительная дама, прибывшая якобы с туристическими целями, на деле же — исполняя кое-какую очень хорошо оплачиваемую миссию, направленную далеко не к торжеству правого дела той страны, из которой дама прибыла, а даже напротив, уводящую эту страну на край политического, да и экономического банкротства, чего дама, будучи особой деловой и настроенной реалистически, не боялась нимало, несмотря на свое весьма привилегированное в таковой стране положение, и даже этому банкротству содействовала, ибо считала свое будущее при любом исходе событий обеспеченным, так как и сама была не дура, и муж ее был далеко не дурак, даже напротив, дальновиднее был, чем многие другие мужчины, — даже и уважаемые ею господа, от коих дожидалась она сейчас оформления всех этих ненужных формальностей.