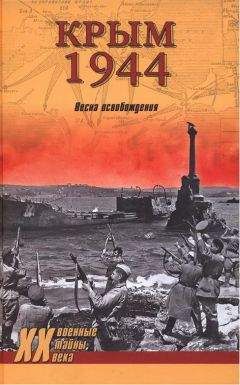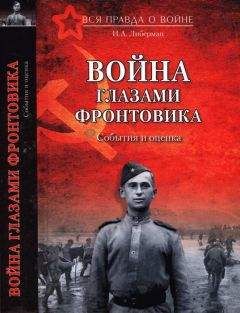– Что это за порода немецких лошадей с короткими хвостами? – спросил я пленного немца, которого мы захватили в Губино. Я видел как удирала повозка из деревни запряженная такими лошадьми.
– Першерон! – ответил он. Это порода лошадей тяжеловозов из области Перш, что на западе Франции.
– Так это французские, и вовсе не ваши, не немецкие! – сказал я. Немец не ответил и промолчал. Но вернёмся к кухне. Два немца копошились возле неё, когда мы открыли беспорядочную стрельбу [в её направлении]. Один из них толстый, видно сам повар, стоял к нам спиной, заложив руки за спину. Другой ненец потоньше, дежурный солдат по кухне, клал в топку дрова. Когда эти двое услышали выстрелы, обернулись назад и увидели нас, они завертелись на месте. Повар схватил вожжи и кнут и стал нахлёстывать лошадей, но кованные колёса тяжелой кухни не сдвинулись с места. Лошади дёргали, приседали на месте, храпели, били ногами, а подложенные под колеса два толстые [бревна] полена примерзли к дороге и не давали кухне тронуться с места. Сами колёса, как выяснилось потом, были затянуты тормозными колодками, а поленья облиты водой. Беспорядочные выстрелы подхлестнули кухонных работяг. Толстый немец закричал на тощего. Тот схватил топор и перерубил постромки. Толстый прыгнул на хребет лошади, дёрнул их за поводья и лошади рывком рванулись вперёд. А тот с топором обезумел от страха, что его бросил толстый, остался стоять как истукан. Видя бегущих к нему русских, он бросил топор и пустился бегом по дороге. Впереди по дороге, набирая скорость, верхом на Першеронах, удирал галопом повар, а сзади, вскидывая высоко вверх коленками %%%%% вдогонку тощий немец. Когда каши солдаты подбежали к кухне, немцы уже были от нас далеко. Да и не убегающие немцы наших солдат интересовали. Повар нахлестывал лошадей, тощий, махая руками, что-то кричал вдогонку ему. Дорога, по которой драпали немцы, все время поднималась по склону вверх. Господствующая высота хорошо просматривалась вместе с дорогой до самой деревни. Деревня стояла высоко на бугре. По карте она значилась Чуприяново. Отсюда, наверное [собственно], и произошло название станции – Чуприяновка.
– 43 – Кухня, отбитая у немцев, была для [нас] солдат самым дорогим и ценным трофеем. Танки в сарае, снаряды в снегу, пленные немцы шли нашему полковому начальству для получения орденов и составления боевых отчетов. Как вы думаете? Перепадёт командиру полка, если он доложит в дивизию, что он взял два исправных танка и десяток немцев в придачу? Такой доклад чего-то стоит! Танки и пленные шли для отчёта в верха, а кухня, с мясным запахом, немецкой анисовой водкой и вишневым компотом без косточек, была, так сказать, божественной наградой для наших солдат за холод и голод, за нечеловеческие страдания и муки. Я велел ординарцу вынуть из кухни металлический бачок с тридцатиградусной анисовой и низкому сверх положенной нормы её не давать.
– Ни грамма, ни капли! Понял?
– Макароны с мясом и вишневым компотом пусть от живота едят! А к водке за сто шагов никого не подпускай! Вот дела! Потешились на кухне солдатики! Дай бог! Отведем душу теперь! Это видно сам Создатель сжалился над нами? В деревянном здании станции, где сейчас находиться касса, зал ожидания, служебная диспетчерская, и где сейчас живет Серафима Петровна Ефимова со своей семьёй, со времён войны мало что изменилось. При немцах в здании станции была конюшня. Когда мы взяли станцию, постоя лошадей здесь уже не было. На полу лежал застывший навоз. Окна и двери были сорваны. Ветер гулял в доме насквозь. Жилыми и теплыми оказались два дома, с крыш которых стреляли немцы. Они стояли ближе к переезду. Здесь, в этих рубленых домах располагалась немецкая санчасть, и стояли зубные кресла. В одном доме стояли два белых кресла, с бурмашинами и со стеклянными шкафами, с лекарствами и инструментом. В другом доме, повидимому, жил врач и санитар. В обоих домах было чисто, светло и жарко натоплено. Солдаты заходили с мороза погреться, и каждый своим долгом считал посидеть в зубном белом кресле перед сном. Солдат удобно садился, клал голову на подставки и руки на подлокотники и [вслух вспоминал] как однажды ему я молодости сверлили зуб. Он лез грязным пальцем к себе в рот, нащупывал, старую пломбу и тыкал в неё, показывая солдатам, при этом выл, скривив рожу, вроде от боли. Другой садился и [тыкал] показывал пальцем в пустое место в десне. Вот мол откуда ему вырвали [больной] зуб. Вот на таком кресле сидел тогда. – Хотел золотую коронку вот сюда на передний поставить, да война помешала!
– Завтра тебе немец свинцовую пломбу поставит!
– Ты нам зубы не заговаривай! Посидел и совесть надо иметь!
– Дай другому посидеть! Здесь портянки перевздеть удобно!
– Посидел в мягком кресле и давай слазь! Ты ещё вшей здесь начнёшь
– 44 – давить бурмашиной!
– Я никогда братцы зубы не сверлил. У нас этого безобразия не было!
– А как же быть, когда зуб болит?
– Привяжешь его суровой ниткой за дверную ручку и ждёшь, когда кто пойдет снаружи и за дверь дёрнет! Дёрнут за ручку и зуб на полу!
– Ну-ка подержи винтовку! Я сяду примеряюсь в кресле! А то убьют и никогда не сидел! Солдат садится в кресло, кладёт голову на подзатыльники, руки опускает на подлокотники и с грустью смотрит на замысловатую бурмашину. Ведь кто-то и доживет! Сядет вот так! Сверлить ему будут!
– Нам с тобой браток помечтать только можно маленько! Буровой станок с ножным приводом поблескивает перед ним [окном].
– У этих немцев всё не как у людей! У самой передовой и пожалуйте – зубной доктор ставит пломбы! Я вышел на воздух, а разговор в доме продолжался. Упустить такую пару лошадей! – вспомнил я перестрелку на кухне [без надобности]. В общем, шуму наделали много, а попаданий ни одного! Ни дохлой лошади, ни одного убитого немца! Когда я подошел к кухне, здесь крутились любители по третьему разу поесть. Кухня стояла у поворота дороги, у песчаного обрыва. Сюда из [глубины местности] небольшого овражка вела узкая снежная тропинка. По тропинке, из покосившейся тёмной баньки навстречу мне шла пожилая женщина, малец лет двенадцати и маленькая светловолосая девочка.
– Милые, родные! – сказала женщина, подойдя ближе.
– Наши пришли! – обратилась она к детям. Дети стояли, смотрели на нас и молчали. Женщина подошла ко мне, обняла меня и заплакала. Потом она долго стояла, смотрела на наших солдат [и молчала]. А солдаты взглянули раз на нее и опять стали толкаться у кухни.
– Вы откуда будете? – спросил я её.
– Девочка местная. А я с мальцом из Калинина, Есть нечего. Вот я и прислуживала здесь у врача. Полы мыла. А жили мы с мальчиком вон в той бане. Девочка приходила к нам, вот как сейчас.