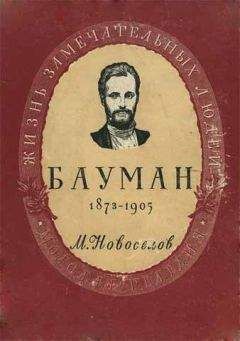Голодовка.
В Средне-Тишинском, на Пресне, на третьем этаже, в крошечных двух комнатках гулом гудели рабочие. Туманом висел густой махорочный дым. Козуба над раскрытым ящиком, в котором рядами поблескивали новенькие, чистенькие, ровные — один к одному — браунинги, убеждал наседавшего на него худого вихрастого рабочего:
— Пойми ты: не одна у нас по Москве ваша фабрика.
— Не одна? — обиженно выкрикнул рабочий. — Не о какой-нибудь речь: о Прохоровке… Это тебе что? У нас и сейчас пятьсот человек в дружины записалось. Дай оружие — тысячу выставлю.
— Да ты вникни, стриженая твоя голова: в эту присылку, русским языком тебе сказано, у меня и всех-то полтораста штук, на всю Москву, а ты на одну Прохоровку двести хочешь! Тридцать даю — бери, и разговору конец.
Кругом поддержали в двадцать голосов:
— Не задерживай, Семен! Козубу знаешь? Раз сказал-стало быть, крепко. Да на Пресне у вас итак с оружием легче, чем в других районах. Одна шмидтовская дружина чего стоит: какое оружие имеет! А у нас хотя бы взять в Замоскворечье…
— То — шмидтовские, то — мы, — огрызнулся прохоровец. — Они драться будут, а мы что, стреляные гильзы подбирать?.. Хоть шестьдесят дай, Козуба!.. Ты ж сам прохоровец был, должен своим порадеть… Ей же бог, с тридцатью мне на фабрику не показаться. Проходу не будет: заклюют!
— Не бойся! — рассмеялся Козуба, отсчитывая револьверы: — …двадцать восемь, двадцать девять, тридцать… Между прочим, в самом деле, не задерживай. Время у всех на счету.
Дверь распахнулась, вихрем ворвалась девушка. Широкий ковровый платок на голове и плечах.
— Ну, теперь держись, ребята! Последняя железная дорога стала: Финляндская. У железнодорожников, стало быть, всеобщая! Чувствуете, к чему дело идет? — И выбросила на стол из-под платка пачку прокламаций, — От Московского комитета. Свежие. Еще краска мажет.
Козуба усмехнулся, подмигнул:
— То-то я гляжу, товарищ Ирина, усы у тебя под носом: откуда бы?
Ирина отерла лицо. Комната дружно захохотала.
— Совсем размазалась! Тебе теперь не от пекарей — от трубочистов в стачечный делегатом, не иначе. Глянь-ка в зеркальце… во-он, на стенке… Хороша?
Листки уже шли по рукам.
"РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА
Товарищи! Рабочий класс восстал на борьбу. Бастует половина Москвы. Скоро, может быть, забастует вся Россия. В могучем порыве рабочий класс стремится свергнуть вековой гнет насилия и произвола. Рабочий класс объявил борьбу на жизнь и смерть правительству воров и разбойников — царскому самодержавию. Он объявил войну и капиталистам — виновникам его нищеты. В этот великий миг каждый, в груди у кого бьется пролетарское сердце, должен встать на борьбу. Кто не с нами, тот против нас; кто сидит теперь сложа руки, тот изменил рабочему делу.
Бастуйте же все, до единого. Идите на улицы, на наши собрания. Выставляйте наши требования-экономических уступок и политических свобод: свободы слова, личности, собраний, союзов, созыва учредительного народного собрания на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования".
Козуба крякнул одобрительно:
— Чистая работа!
— Еще бы! — Ирина тряхнула косами. — Не как-нибудь-на ротационной печатали. Вот это техника! Что будет, товарищи, когда мы технику себе наконец заберем! Вспомнить смех, как четыре года назад я печатала… Рамочка картонная, трафарет гвоздиком наколот. А здесь-стальные валы. Гудит… Красота! Силища! Мы же в Сытинской…
— Сытинскую захватили? Вот это дело!
— Захватили! — смеялась Ирина. — Ко входу, к машинам, к телефонам дружинников поставили с оружием. Хозяина и управляющего — под арест. Шпик там каким-то способом между рабочими сунулся, так опознали сейчас же. Чуть его сгоряча в ротационку не спустили.
Кто-то отозвался сочувственно:
— А что думаешь: отделали бы за первый сорт.
Но остальные не поддержали:
— Ну, еще пачкотню заводить! Стукнуть по башке, и всё тут.
Ирина кивнула:
— Предлагали и это. Но только большинство решило — рук не марать.
Кругом зароптали:
— Неужто так просто и отпустили?
— Не просто, — успокоила Ирина. — Красками вымазали. Всеми, что в типографии есть, во все колера. И для понятности написали и на груди, и на спине, и на лбу прописными литерами: "Шпик".
Козуба одобрил:
— И так ладно. Под эдаким этикетом дойдет до дому либо нет — его счастье: типографская краска въедливая, не скоро сотрешь. У тебя-то усы все еще на месте… Пойди-ка к Нюре, она тебе керосину даст — красоту навести. Неудобно неумытой. Революция.
Глава XXIX
"КРЕПКИЕ ПОДДАВКИ"
— Революция?
Голос прозвучал глухо, отчаянным, но злобным и тихим шепотом по застланному коврами кабинету генерал-губернатора. Дубасов стоял посреди комнаты, глубоко засунув руки в карманы, втянув в белый тугой крахмальный воротник жилистую шею. Дыбились на поднятых гневным пожатием плечах адмиральские золотые с черными двуглавыми орлами погоны.
— Революция? Вы по-ни-ма-е-те, что вы такое говорите, господин обер-полицмейстер?
Полицейский генерал, горбоносый, чуть дрогнул и крепче зажал в руке серую, серебром окантованную барашковую шапку:
— Так точно, ваше высокопревосходительство. Если бы только Москва, можно бы назвать — бунт. Но ведь по всей России, ваше высокопревосходительство, то же самое делается. Дороги стоят, телеграф не работает, ни одна заводская труба не дымит. Света нет. Того и гляди, водопровод остановят. Аптеки — и те закрылись… В Петербурге, изволите знать, даже императорский балет бастует…
— И митрополичьи певчие, — подсказал тихий шамкающий голос.
Седенький редковолосый старичок, в малиновой темной шелковой рясе, в белом клобуке, затряс бородкой, согнувшись в глубоком кресле. Он один сидел; все остальные (их было человек шесть-семь в этом кабинете) встали, как только Дубасов поднялся из-за огромного дубового стола, уставленного серебряной письменной утварью.
— Стало быть, — адмирал перевел вновь глаза с митрополита на полицмейстера, — я должен вас так понять: вы не ручаетесь за город? Говорите напрямки: полиция не может справиться?
Серая шапка сжалась в комок. Но полицмейстер ответил твердо:
— Так точно. Не может. Я вынужден был приказать снять уличные посты и сосредоточить все силы в участках, в распоряжении приставов. На улицах полиции показываться небезопасно. Особенно — одиночным. Смею доложить: были уже случаи разоружения толпой…