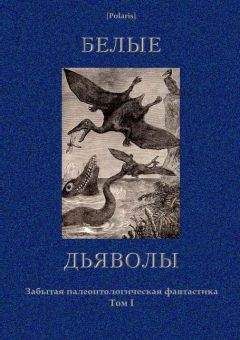— Полно, дорогой де Гуаира! Вот увидите, все образуется!
— Конечно, шевалье! А как же иначе! Обрадовался, улыбнулся, огладил бородку.
— Vieux diable! Чувствую, завтра тут будет жарко!
Да, жарко. Надо сходить за гитарой. Черная Книга — в надежном месте, а все остальное — пропадай оно пропадом!
— Дорогой дю Бартас! А не прочитаете ли вы мне какой-нибудь сонет?
Пикардиец на миг растерялся, бородка недоуменно вздернулась.
— Но… Вы уже все слыхали, Гуаира! Впрочем… Ага, вот! Признаться, несколько высокопарно…
Прокашлялся, помолчал, вспоминая. Я не торопил. Странно, иногда начинало казаться, что не забытый поэт, умерший много лет назад, а сам дю Бартас написал эти неуклюжие четырнадцатистрочники.
Четыре слова я запомнил с детства,
К ним рифмы первые искал свои,
О них мне ветер пел и соловьи —
Мне их дала моя Гасконь в наследство.
Любимой их шептал я как признанье,
Как вызов — их бросал в лицо врагам.
За них я шел в Бастилию, в изгнанье,
Их, как молитву, шлю родным брегам.
В скитаниях, без родины и крова,
Как Дон Кихот, смешон и одинок,
Пера сломив иззубренный клинок,
В свой гордый герб впишу четыре слова.
На смертном ложе повторю их вновь:
Свобода. Франция. Вино. Любовь.
— Король! Король убит!
Еще ничего не понимая, я дернулся, привстал, рука привычно скользнула к сарбакану…
Сарбакана нет, лишь мешок да гитара в чехле.
— Короля убили! Насмерть! Слава!
— Слава! Слава! Сла-а-ава!
Я протер глаза. Выходит, я все проспал? Кажется, бой уже начался! И не просто начался!
— Ядром! Он впереди гусарии своей ехал! Наповал! Наповал!
* * *
Тучи сгинули. Яркое солнце заливало неровное поле. Дым, маленькие, словно игрушечные, фигурки…
Ни черта не понять!
Черные реестровцы, забыв о привычной сдержанности, выстроились на краю вала. Кто-то кричал, кто-то размахивал саблей.
— Победа! Победа!
Белые свитки держались поодаль, но в их глазах я тоже заметил радость.
Неужели правда?
Хохот за левым ухом. Перекреститься? Нет, не поможет! Плохой из меня получился пророк!
— Бегут! Бегут!
Я поглядел туда, где клубился черный дым. Сквозь прорехи можно было заметить неровный отступающий строй. Чей? Шевалье! Где шевалье, черт его побери?!
* * *
Дю Бартаса я нашел на самом краю вала. Грозный пикардиец стоял, скрестив руки на груди и надвинув мохнатую шапку на самые брови.
Тоже мне, принц Бурбон нашелся!
— А-а, Гуаира! Ну и спите же вы, мой друг! А баталия, признаться, преизрядная!
Я еле сдержался, чтобы не сбить с пана полковника шапку. Стратег, parbleu!
— Пока вы спали, нас, как видите, изволили атаковать. Но фельдмаршал-лейтенант Богун вовремя развернул пушки. Vieux diable! Ну и молодец!
— Король! — не сдержался я. — Что с королем?
— Гм-м… — Пикардиец нахмурился. — Признаться, я не совсем понял. Тут все толкуют о каком-то короле. Но ведь мы воюем с татарами! Правда, татар я отчего-то не видел, нас атаковала латная конница…
Дьявол!
* * *
Клубы дыма сгустились, скрывая поле боя. Но вот откуда-то слева послышался знакомый визг. Сначала еле слышный, затем все громче и громче. Земля задрожала от ударов тысяч копыт.
— Кху-у-у-у! Ху-у-у-у-у! Алла-а-а!
Татары! Ну и тяжелый язык у шевалье!
Я растерянно оглянулся. Неужели так и делается история? Сейчас орда сметет остатки разбитых гусарских хоругвей, ворвется в королевский лагерь…
И все? Полумесяц над Варшавой, полумесяц над Краковом? Вместо Республики — Лехистан?
— Слава! Сла-а-ва!
Вот они! Огромная серая туча, стелющаяся над самой травой. Ни людей, ни коней — одно неровное грязное пятно. Наползает, затопляет поле…
А я понадеялся на польские пушки! У capitano Хмельницкого их тоже оказалось преизрядно.
Арцишевский, пся крев, где тебя черти носят?
Наконец громыхнуло — далеко, возле самого польского лагеря. Негромко, неуверенно. Громыхнуло, стихло…
Я махнул рукой и стал спускаться вниз. Sit ut sunt aut non sint![23] Если Ян-Казимир все-таки жив, еще есть надежда. А если нет, то уже сейчас паны шляхта разбегаются по ста разным дорогам и тропкам. В атаке — волки, в бегстве — зайцы…
То-то радость сьеру римскому доктору! И не ему одному. Захочет ли теперь Паоло Полегини даже разговаривать с посланцем Конгрегации?
Vae victis!
Крики не стихали, пушки у королевского лагеря продолжали огрызаться, но я уже не обращал внимания на весь этот шум. Забавно читать в книгах про войну о том, как с высокого холма некий очевидец наблюдает за ходом баталии. Полк налево, хоругвь направо… То, что это ерунда, я понял лет в шестнадцать, когда отец Мигель разрешил мне садиться на коня. Сельва, свист стрел у самого уха, резкий запах пороха, ветки, бьющие по глазам, — и чье-то окровавленное тело под копытами хрипящей лошади. Лишь потом узнаешь, кто, собственно, победил. Но и тут, на огромном поле, ничего не понять. Дым, фигурки мечутся, даже неясно — отступают ли, атакуют. И пушки гремят — непонятно чьи…
Кстати, кажется, они гремят уже громче! Куда громче — и ближе!
Кажется?!
— Тикают! Тикают!
«Цукеркомпф» упал с головы, но я даже не обратил на это внимания. Почудилось, что вал внезапно вырос, стал выше пирамид, выше Кельнского собора.
— Тика-а-аю-ют! Татары тикают!
Ноздри вдохнули острый пороховой запах — ветер бил в лицо. Там, впереди…
…Там, впереди, не было ничего — кроме надоевшего черного дыма. Но вот мелькнуло что-то серое, за ним еще, еще…
— То что ж они творят, гололобые? Ах, сучьи дети! Наконец ветер смилостивился, ударил по черной пелене, разорвал, погнал клочьями. И сразу же стало видно все — далекие бастионы, сверкающий белым железом конный строй — и огромное серое пятно, уползающее с поля.
Татары бежали. Но не влево, где на холме ветер развевал многохвостый ханский бунчук, а направо, к голубой ленте Стыра. А за ними, медленно и ровно, словно на королевском параде, разворачивалась латная конница. Часть хоругвей поворачивала вправо, готовясь идти вдогон за убегающей с поля битвы ордой, остальные же строились фронтом к замершему от неожиданности Вавилону. Неужели?
— Ma foi! Пушки готовьить! Бистро! Бистро! Резкий голос шевалье заставил очнуться. Дю Бартас тоже увидел. Увидел — и понял раньше меня. Что же случилось? Татары уходят к Стыру. Хитрость? Засада? Сейчас коронные полки ударят в лоб, их левый фланг почти открыт, на правом — турки…