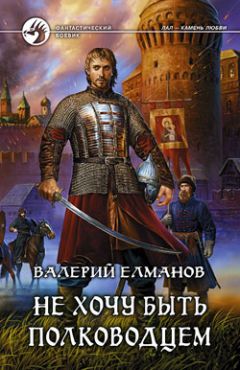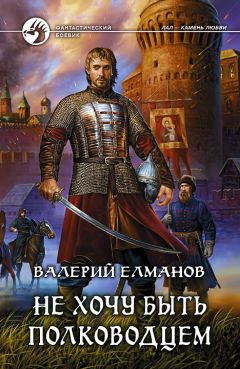И забрезжило что-то. Неясно так. Свет в конце длиннющего черного тоннеля. Маленькое пятнышко. Крошечное совсем, но ведь есть. Так-так…
— Тайное хочу тебе поведать, государь, — решился я попытать удачи. — Только для твоих ушей оно, и ни для кого больше. — И многозначительно уставился на царя.
— О нем? — равнодушно спросил тот.
— О тебе, — отрезал я.
Ага, проняло. Бровки снова домиком встали, глазки навыкате еще больше из орбит вылезли. Правда, он и тут старался не подать виду, как сильно я его заинтересовал, — распоряжался нехотя, с ленцой. Ну и ладно. Главное, что свидетели удалены. Последним ушел кат, легко, без натуги несущий Воротынского, бессильно свесившегося через плечо палача.
— Сказывай, фрязин, — буркнул Иоанн. — Токмо ежели ты сызнова за князя просить учнешь…
— Не начну, — заверил я его. — Мне тут об ином подумалось. Когда митрополита Филиппа злые языки оклеветали, в народе стали сказания о нем слагать да песни петь. Доводилось мне слыхать кой-какие. Ты, государь, в тех песнях… — Я сокрушенно вздохнул.
— Покарал я уже злоязыких — нешто забыл? — напомнил мне Иоанн.
— А песни все равно остались, — возразил я. — Ныне, ты уж мне поверь, государь, с князем Воротынским точно так же приключится. В народе мучеников ох как любят. Непременно начнут сказывать о спасителе Руси да о том, что ты, Иоанн Васильевич, славе его позавидовал, потому и послал его на плаху. И тем, что ты потом покараешь беглого холопа и татя Осьмушку, уже все равно ничего не изменишь — останутся сказания, а в них князя сделают страдальцем, а тебя… Потому и говорю, что ныне не о нем речь — о тебе. Да ты и сам ведаешь, что не ладили мы с ним в последнее время. В обиде он на меня был, напраслину возводил, так что мне на него — тьфу и растереть, хотя, признаюсь как на духу, плахи ему все равно не желаю. Но главное — о тебе душа болит да об имени твоем честном.
— Мудро сказал, фрязин, — согласился Иоанн, но не успел я порадоваться, как он тут же спустил меня с небес на землю: — Одно жаль — поздновато ты мудрость оную выказал. Ежели я его неповинным объявлю, тогда еще хуже песню сложат. Посему…
— Погоди, государь, — заторопился я. — Почему неповинным? Пусть так и останется виноватым.
«История сама разберется, кто страдалец, а кто козел и… Мучитель», — припомнилось мне прозвище царя, которым наградили Иоанна «благодарные» современники и очевидцы его «славных» дел, а вслух продолжил:
Но ты же милосерден, яко и подобает христианнейшему изо всех владык. Да, он умышлял, и тому есть видок, но доброта души твоей преград не ведает, и ты всегда можешь его простить, как сам Христос заповедал.
— За такое прощать не след, — назидательно произнес Иоанн, медленно цедя слова. Он не столько говорил, сколько размышлял вслух. — Мое прощение — пагуба и соблазн для всех прочих. Иной решит, коль я одного простил, то… Да и не ведаешь ты всего, фрязин. Я ж вместях с ним еще кой-кого повелел в пыточную привести. И у Никитки Одоевского вина поболе, нежели у Воротынского. Так и не простил он мне своей сестрицы[70]. А уж Михайла Морозов и сам своей злобы супротив меня не скрывает. Слыхал бы ты, что он тут на дыбе сказывал. И как токмо язык у нечестивца повернулся?! Решил, поди, что раз моим дружкой на свадебке с Анастасией Романовной был да из пушек под Казанью славно палил, так я ему и укорот не дам. Да за такие речи не токмо ему — всему роду укорот надобно дати. И дам, ей-ей, дам![71]
Я осекся на полуслове. Перед глазами тут же встало задумчивое лицо Никиты Романовича, первого воеводы полка правой руки в битве под Молодями. Не из умниц, но и не из дураков. Опять же поставленную задачу задержать продвижение орды Девлет-Гирея он тогда выполнил на сто процентов. Морозова я помнил хуже. Под Молодями среди воевод его не было, а в ливонском зимнем походе он был вторым в полку правой руки, а тот, как правило, все время шел гораздо севернее нас, и я боярина практически не видел.
Но как бы там ни было — все равно не дело. А ведь там, в Ливонии, царь практически угомонился. Я уж понадеялся, что до него дошли мои убеждения. И вроде бы он тогда согласился со мной, что нет смысла проявлять излишнюю жестокость, которая лишь поначалу внушает страх. Потом-то как раз наоборот — люди тупеют от бесконечных казней, и им становится на все наплевать. Оказывается, урок пошел не впрок. Стоило слегка отлучиться, как он опять за старое.
И что мне теперь делать? Защищать сразу всех троих? Не потяну. Кого-то придется оставить ему на зубок, иначе этот вампир с голодухи вообще никого не помилует. Звиняйте, ребята.
«Я не волшебник — я только учусь», — виновато сказал Золушке маленький паж феи.
— Про них я вовсе ничего не ведаю, а потому и не говорю, — угрюмо сказал я. — А что до Воротынского, то можно его и в опалу отправить. Где там его жена с детишками? В Белоозере? Вот и его туда же. Телесного здоровья ты ему уже не вернешь — каты твои на совесть потрудились, от души, но все равно — если даже он к следующему лету помрет, ты в том неповинен.
Иоанн оперся на посох и вновь задумался. Я почесал в затылке, но дополнительных доводов в защиту своего предложения там не отыскал. Впрочем, мне все равно не удалось бы их высказать — царь поднял голову и произнес:
— Вот ты его и повезешь. Один раз приставом побывал, управился, — напомнил он мне о Колтовской, и я стыдливо потупился. — Мыслю, что и вдругорядь управишься.
— Как повелишь, государь, — вздохнул я.
Но управиться мне не удалось. Да, наши предки хоть и были гораздо ниже нас ростом (про размер обуви вообще молчу, иначе современные девушки обзавидуются), хоть и не знали прокладок, тампонов, жвачек и шампуней от перхоти, зато были гораздо закаленнее и выносливее. Глядя на страшные раны на спине Воротынского — хорошо потрудились изверги, и на его жуткие ожоги, особенно на боках, я сознавал, что мне хватило бы четверти, а то и вовсе десятой части для вечного упокоения прямо там же, в пыточной. За глаза. Утверждаю неголословно — сравнивать было с чем. Достаточно припомнить скромный десяток ударов кнутом, которые гуманист Ярема к тому же отвесил мне вполсилы. Так ведь я — мужик в расцвете. Возраст Христа. А Воротынскому шестьдесят. Но всему есть предел, а царские палачи в своем усердии его переступили.
Винить мне себя вроде бы не в чем — сделал все что только мог, и даже чуточку больше, но осадок на душе оставался. Несмотря ни на что. Не помогло и то, что сам князь раз пять просил у меня прощения за то, что худо обо мне подумал. Да и последние его слова были адресованы не сыновьям, не жене, а мне.