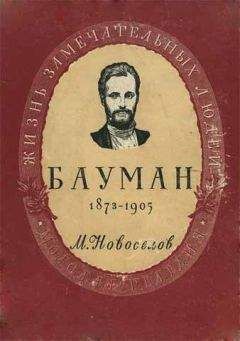— Правильно-стоголосым гулом отозвалась толпа.
Седоватый махнул рукой отчаянно:
— Я ж не против чего… Я только по осторожности… Обождать, говорю…
Голос затерялся в гуле. Из рядов кричали злорадно и яро:
— Хватит! Сказал! В бочку!
Макеевский оглянулся на президиум испуганно. Но старик, с Козубою рядом, кивнул подтвердительно:
— Слышал? Лезь. Порядок у нас на митингах установлен такой: говорить-на бочку, а ежели проврался-в бочку. Вон стоит, — ухмыльнулся, — отверстая… — И, наклонившись к Козубе и Бауману, пояснил:-Это мы, извольте видеть, для того, чтобы человек с рассудком говорил. А то вначале было: выскочит который краснобай, чешет, чешет языком — не понять, что к чему… Ну, а как бочкой припугнешь, молоть опасается.
Еще не был окончен митинг, когда Бауман с Козубой вышли за ворота: к вечернему заседанию комитета обещали быть в Москве. Около иконы святителя Сергия несколько парней и седой ткач с красной кумачовой повязкой на рукаве выворачивали из оковок прикрученную к подножию иконы огромную кружку для пожертвований. Глухо бренчали тяжелым звоном, перекатываясь в жестяной утробе, медяки.
Бауман остановился:
— Это вы что?
Седой повел бровями успокоительно:
— Стачечный комитет постановил — отобрать на вооружение… Вы не беспокойтесь, товарищ, мы согласно закону: вскроем по акту и расписку составим, сколько именно взяли. После революции пусть поп из банка получает, ежели власть постановит, чтобы отдавать.
— Постановит, держи! — рассмеялся один из молодых, крепкозубый. — Не чьи-нибудь, наши деньги, рабочие: свои же дурни фабричные насыпали. Их за дурость, выходит, и штрафуем.
Козуба вопросительно посмотрел на Баумана:
— Уж не знаю, правильно ли?.. Казны тут — ерундовое дело, а крик подымут: рабочие, дескать, грабят…
— На всякое чиханье не наздравствуешься, — степенно возразил старый ткач. — Эдак и помещичий налог тоже на грабеж повернуть могут, тем более-там не на пятаки счет.
— Какой еще налог?
— На помещиков, я говорю. Тут, кругом фабрики, помещичьи земли. Комитет и послал в объезд-по усадьбам-денег собрать на стачку. Ну, стало быть, и на вооружение. Приехали мы первым делом к графу Соллогубу, — есть у нас тут старик такой, миллионщик. Расчет был на то, что он, как старик, особо хлипкий. И действительно, как увидал — рабочие, притом вроде вооруженные, — тысячу целковых отвалил. Ну а дальше уже легко пошло. Приезжаем сейчас же: так и так, Соллогуб тысячу дал. "Тысячу?" Ну каждый соответственно выдает… Апраксина, княгиня, так целые две тысячи дала… "Если, — говорит, — Соллогуб-одну, так я две…" Перешибить, стало быть, форснуть.
— Думают, откупились! — подмигнул крепкозубый. — Подожди, дай срок…
Старик докончил:
— Медяки эти не для корысти — для порядка отбираем. Денег у нас и так сейчас много. Месяц бастовать надо будет-месяц пробастуем, два-и два продержимся! И на оружие хватит, к вам в Москву дружину послать, если понадобится… В наших-то местах едва ль какое сражение будет, кому тут против нас воевать? Становой один был, да и тот давно удрал. А вам, на Москве, есть кого за горло брать.
Паровозные искры-в ночь. Бауман с Козубой- у решетки паровоза. Октябрьский ветер, холодный, бьет сквозь пальто в грудь. Из-под самых ног, в два снопа, сверлят мрак фары.
— Не простудишься, Грач?
Бауман ответил не сразу. От сегодняшнего дня — тесно мыслям. Поежился под ветром Козуба:
— Не узнать ребят, а? Помнишь, как ты в девятьсот втором стачку у нас в районе проводил? До чего был народ забитый!.. Прошину, старику, только пальцем погрозить… А сейчас, смотри, — держат линию… И главное дело, ты обрати внимание: ведь всё-собственным разумом. Заброшенная эта фабричка, прямо надо сказать. Опять же — текстили… отсталое производство… — Усмехнулся, вспомнил:-А бочку ладно придумали. Честное слово, хорошо бы в повсеместный обиход ввести. Словоблудов бы поубавилось. Вот тоже яд! На митингах нынче та-кая резня идет… Цапают меньшевики рабочих за полу, боятся, как бы далеко не зашли. О восстании ему скажи, меньшевику, — затрясется. Очень здорово, что ты вышел. Ты с малых лет, можно сказать, наловчился меньшевиков бить.
Бауман ответил очень серьезно:
— С меньшевиками я справлюсь. А вообще — странное у меня чувство, Козуба. В Петропавловской крепости я двадцать два месяца отсидел. Вышел, чувствую — от одиночки вырос. После ссылки — тоже. После Лукьяновской тюрьмы — тоже. Каждый раз, когда я из затвора выходил, сознание было, что вырос. А сейчас такое у меня чувство, что все вперед ушли, выросли все, а я будто — не больше, а меньше.
Серьезным стал и Козуба:
— Год пятый-действительно знаменитый. За год один не узнать стало людей. Главное дело, народ свою силу чуять стал… А насчет «больше-меньше» — это тебя еще с голодовки шатает. Десять лет ты на революцию работаешь, всем нам у тебя поучиться надо… Бурлит Россия!.. Еще день, неделя-и либо нас расстреливать начнут, либо фортель какой-нибудь придумают…
— Ма-ни-фест!
— "Свобода собраний, союзов, личности…"
Бауман почти вырвал из рук мальчишки-газетчика сырой, типографской краской пахнущий листок. В самом деле:
"Мы, божьей… милостью, Николай Вторый, император и самодержец…"
"…признали за благо даровать нашим верноподданным…"
— "Даровать"! Ах, будь он трижды!..
Бауман невольно улыбнулся. Но улыбка сошла с губ мгновенно: до слуха дошло раскатистое, дружное "ура".
— Неужели поверят?.. Вот вам и "фортель"…
По улице надвигалась на него толпа. Впереди, махал шляпами, шли какие-то хорошо одетые и упитанные люди. Они кричали восторженно, но крики тонули в раскатах «ура». В толпе, валившей за ними, разношерстной и разнолицей, Бауман увидел рабочих. И помрачнел.
Заседание комитета назначено на двенадцать. Сейчас еще только девять. Но поскольку манифест… наверно, уже собрались. Если сегодня распубликовано, в комитете вчера еще вечером должны были знать. Он опять выезжал в район, только поздней ночью вернулся. И Надя с вечера куда-то ушла на работу.
Комитет-в Техническом училище, на Немецкой. Далеко. Бауман пошел быстрым шагом.
Народу на улицах становилось все больше. Кое-где на стенах домов трепались уже спешно вывешенные трехцветные, «национальные» флаги.
На перекрестках, запруженных толпами, кричали, стоя на тумбах, придерживаясь за уличные фонари, ораторы. И всё те же, всё те же доходили до Баумана выкрики:
— Свобода!.. Свобода!..
И в кричащих толпах этих — все больше, больше рабочих. Бауман круче сдвинул брови.