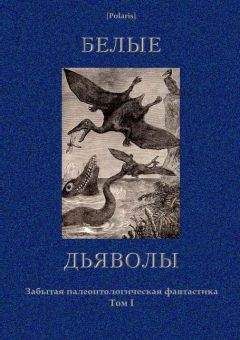Шевалье принялся в задумчивости лохматить свою бородку, но я не стал ждать ответа.
Мистерия началась.
«Гибель Вавилона», акт первый.
У западной гати меня остановила стража. Черные реестровцы долго присматривались, наконец старшой, рыжий и рябой усач, неохотно кивнул, вероятно, рассудив, что посполитые в голландских плащах не ходят. Но я не спешил к переправе, наивно поинтересовавшись, что, собственно, происходит.
Реестровцы переглянулись. Рябой усач, ухмыльнувшись, сообщил, что Станислав Лянцкоронский, трясця ему в селезенку, со своими ляхами пытается обойти табор. Но Богун, новый гетьман наказной, сей маневр угадав, ведет войска наперерез. Волноваться нечего, так что пан зацный может передать, чтобы посполитые и прочая чернь спали спокойно.
Слово «чернь» старшой выговорил особенно вкусно. Итак, «чернь» может спать спокойно.
Вечно!
* * *
Еще западнее, ближе к заваленному непогребенными телами полю, болото подступало к самому табору. Пляшивка исчезла, чтобы вынырнуть из тихой хляби далеко отсюда, за гатями. Когда я намечал места новых переправ, то сразу приметил это место. Удобный пологий берег, холм, закрывающий королевский лагерь, южнее — пушки нашего редута. Но именно здесь болото оказалось особенно глубоким. Не болото — топь.
Я подошел к краю темной воды, скрытой высоким камышом, и неуверенно ткнул носком сапога в черную грязь. Мне сказали, что в этих местах есть какая-то тропинка, обозначенная прутиками-вехами. Но кто разглядит ее в этой суматохе! А ведь переправлять надо не одного, не десяток, не сотню.
В Гуаире я нагляделся на болота. Нагляделся, набродился, нахлебался. Не через каждую топь можно проложить гать. Правда, кадувеи и гуарани уверяли, что могут ходить прямиком через хляби, не думая о тропах, — если, конечно, великий дух Тупи поможет.
Я был гидравликусом и не верил в великого духа Тупи. Даже он не спасет, когда булькающая трясина схватит за лодыжки, заурчит, потянет вниз. Но сейчас, когда мистерия уже началась, я был готов поверить и в него, помолиться, помазать жиром губы клыкастого идола…
Болото молчало. Потревоженная мною лягушка неторопливо шлепала в гущу камыша.
* * *
Темная завеса исчезла, сменившись бледным неярким рассветом. Страшный день вступал в свои права, но начинался он обычно, буднично и даже скучно. Ветер разносил по табору надоевший запах горелой каши, возле митрополичьего шатра привычно топталась толпа, пришедшая на утреннюю службу. Разве что черного цвета стало меньше да почти стихло лошадиное ржание.
Но кое-что все же изменилось. С нашего вала исчезли часовые, а на польской, противоположной, стороне собралась густая толпа.
Зрители. Пока еще зрители. Надолго ли?
…В этом тоже было что-то знакомое. В первом акте мистерии на сцене собираются все — кроме тех, кому доведется завершить трагедию. «Diablerie» — Дьяволово воинство. Они недалеко, совсем рядом, наиболее любопытные уже заглядывают, принюхиваются, корчат рожи.
Diablerie — войско Его Королевской Милости Яна-Казимира. Ты совсем стал еретиком, бедный Илочечонк!..
За высокими валами редута уже никто не спал. Но кашу не варили. Белые сорочки собрались в центре, разбившись на несколько отрядов. Черные реестровцы суетились между ними, пытаясь привести лапотную армию в порядок. Откуда-то появились мушкеты, пики, небольшие переносные мортиры, называемые здесь странным словом «гакивница».
Бог Марс вновь восседал на своем барабане. Бородка — пистолетом, верная шпага — в руке.
— Бистро! Бистро! Рядьи строить, не бродить а ли кошон, parbleu!
Я залюбовался. Не беспорядочной толпой, не ведающей, где лево, где право, а самим шевалье. Эх, нет тут панны Ружинской!
Увидев меня, славный дю Бартас с достоинством встал, повел плечами.
— Дорогой друг! Ваши указания выполнены! Все! То есть почти все…
На «почти» я вначале не обратил внимания. Хорошо и то, что реестровцы не побоялись вернуться. И что белые свитки не разбежались — тоже хорошо.
— Сюда все не вместились, я приказал остальным вилланам собираться у южного эскарпа. Ma foi! Там их тысячи четыре, не меньше!
…Из почти сотни тысяч, что пришли сюда по зову capitano Хмельницкого. Но все равно…
— Браво!
Пикардиец удовлетворенно огладил бородку.
— Vieux diable! Мне бы неделю, и я сделал бы их людьми! Однако же, дорогой де Гуаира, наш попик категорически отказался последовать за мной!
— Какого черта! — возмутился я. — Из-за его ослиного упрямства…
— Раненые, мой друг! Он не может их оставить. Черт, дьявол, Лютер, Кальвин! Как я мог забыть? Вывезли не всех, вчера вечером еще оставалось не меньше двух сотен только тяжелых!
Неужели фельдмаршал-лейтенант даже раненых бросит?
— Ноши! — гаркнул я. — Надо срочно достать ноши! Или сделать — из чего угодно!
Кажется, я перенапряг голос. Шевалье испуганно моргнул.
— Да-да, конечно, в таборе есть полотно, можно связать вместе пики… Я еще не успел рассказать о синьоре де ла Риверо. Наш грамотей тоже не желает…
Я лишь махнул рукой. Не желает? Так пусть катится к своему Лютеру!
* * *
Первый акт продолжался — неторопливо, нарочито скучно. Так и должно быть в мистерии. Зрителям надо привыкнуть, освоиться, окунуться в атмосферу надвигающейся беды. И когда им начнет казаться, что самое страшное так и не случится…
Крик — долгий, отчаянный — разорвал привычный монотонный шум. Крик, тишина, неуверенное молчание.
— Предали! Зрада! Предали!
Тишина раскололась, разлетелась звонким жутким эхом:
— Предали! Ушли! Бегите, братцы! Бегите!!! И начался акт второй.
* * *
— Шевалье! На вал, быстро!
Бледные лица часовых. Мушкеты дергаются в руках.
— Пан пулковник! Пан пулковник!..
Дю Бартас зарычал — и парни умолкли. Табор! Что в таборе?
В таборе — белым-бело.
Я даже не подозревал, что здесь столько народу. Огромная толпа в знакомых белых рубахах появилась словно из-под земли, набилась в узкие проходы между шатрами, затопила холм, где золотом горели высокие кресты.
— Измена! Ушли! Все ушли! На гати! На гати!
Людское море замерло на миг — и тут же волны ударили во все стороны. Ближайший шатер дрогнул, начал заваливаться набок.
— На гать! Утекай, братцы!
Кто-то упал, исчез под обутыми в лапти и постолы ногами. Кого-то отбросило в сторону, к подножию вала. Где-то вдалеке человеческим голосом закричала обезумевшая лошадь. А море плескалось, выходило из берегов, орало тысячеголосым хором:
— Утекай! У-те-кай!