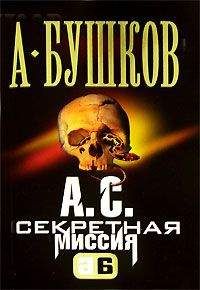Самое время действовать согласно уговору – но тут господин Штауэр затоптался. Подозрительная натура тевтона и старого финансиста форменным образом вопияла. Очень уж все это было странно. И чересчур просто. Более сложная – быть может, даже чуточку дурно пахнущая комбинация его не удивила бы, окажись она какой-то более житейской, что ли. То, что предлагал милорд, выглядело чересчур уж легко и просто – а жизненный опыт приучил господина Штауэра к нехитрой истине: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. К тому же (тут господа из Третьего отделения совершенно правы, как в воду смотрели!) немца смущала принадлежность карт, которые ему следовало истребовать вместо долга: резиденция императорского семейства, что само по себе наполняет душу трепетом… Вдруг за этим кроется… такое что-нибудь этакое? Что обойдется себе дороже?
Одним словом, состоялось решительное объяснение. Господин Штауэр категорически отказался участвовать в непонятной ему негоции. В конце концов, английский милорд был человеком здесь совершенно чужим, заезжим, и на него, если рассудить вдумчиво, не распространялись строгие правила чести касаемо карточных долгов. К тому же беспроигрышные три карты – о чем немец заявил англичанину в глаза – позволяют предположить, что проигрыш господина Штауэра был, как бы это помягче выразиться, следствием процессов, бесконечно далеких от игры случая…
Говоря все это, Штауэр недвусмысленно намекнул, что, учитывая те самые подозрения, получить с него долг по суду, то есть официальным образом, милорду будет крайне затруднительно. Он даже соглашался отдать некоторую сумму, которую был в состоянии выплатить без напряжения, – но их знакомство на этом должно было кончиться.
К некоторому его удивлению, милорд Гордон принял такие новости с поистине британской флегматичностью. Пожал плечами, улыбнулся и откланялся, напоследок любезным тоном попросив обращаться к нему в случае особенной нужды.
В ту же ночь немца схватило. Из-под кровати тянулись черные мохнатые руки, шарили, сдергивали одеяло, гардероб распахивался сам собой, и оттуда лезли бараньи головы с горящими глазами. Прибежавшая на вопли прислуга не обнаружила ничего постороннего в барской спальне – а после ее ухода вновь начались ужасы. Еще более разнообразные и пугающие. Так что глаз сомкнуть не удалось до утра. На другую ночь все повторилось, дополнившись сюрпризами в виде шлявшихся по спальне покойников, тошнотворно вонявших мертвечиной и норовивших сгрести в объятия, мохнатых существ непонятной породы, старательно вносивших свою лепту, а также черных собак и чего-то вовсе уж страшного, о чем немец и рассказывать не стал.
На третью ночь он сбежал в домик своей симпатии на Охте – но достало и там, после чего из дома он был изгнан задолго до рассвета – симпатия совершенно правильно расценила ночные ужасы как следствие визита к ней сердечного друга Готлиба, притащившего за собой эту нечисть.
Пробродив до рассвета по улицам, преследуемый очередными гостеньками из преисподней, Штауэр, сломленный, отправился к милорду. Тот встретил его как ни в чем не бывало, а выслушав рассказ о неприятностях, посоветовал, не мешкая, принести на него, милорда, жалобу в полицию и в суд.
Немец, конечно, хорошо понимал, что обращение его в помянутые учреждения кончится, к гадалке не ходи, заключением в смирительный дом. Положение обозначилось безвыходное, и он, скрепя сердце, согласился выполнить то, что от него прежде требовали, взяв с милорда клятвенное обещание, что тот после забудет о его существовании. Милорд обещал…
– Богом клянусь, чем угодно! – шепотом воззвал немец. – Все так и обстояло! Это – расплата за вольнодумство, господа, никогда не верил в чертей, они и нагрянули…
Пушкин молчал. Он не сомневался, что немец выложил чистую правду, что все рассказанное с ним произошло на самом деле – но ясности это в запутанную историю не прибавляло…
– Ну вот что, господин Штауэр, – сказал он сурово. – По ряду соображений истории вашей я верю. Можете убираться отсюда, но извольте хранить о происшедшем молчание до самой смерти. Потому что черт вас дернул впутаться в такие государственные секреты, о которых вы и представления не имеете…
Ловя его руку с явным намерением облобызать, немец затараторил что-то в том смысле, что он всю жизнь будете считать себя в неоплатном долгу перед «господином полковником», а уста его будут запечатаны печатью молчания на всю оставшуюся жизнь. Так и заявил, орясина, в этих именно выражениях – которые окончательно вывели Пушкина из себя.
– Прочь отсюда! – цыкнул он. – И чтоб я вас больше…
Господин Штауэр, не заставив себя упрашивать, кинулся из недостроенного дома, все еще бормоча слова благодарности, выскочил на улицу и припустил так, словно намеревался до наступления рассвета достичь Москвы. Заполошный топот моментально стих вдали.
Красовский перекрестился:
– Опять началось. Мало нам было весьегонской ведьмы, так еще английский чертов пастух объявился… Что решите, Александр Сергеич? Серебряные пульки у меня вообще-то припасены…
– А ну как не возьмет эту разновидность серебряная пуля? – спросил Тимоша дрожащим голосом. – Мало ли из каких он будет… По-хорошему, уйти бы подобру-поздорову, а утром призвать отца Никодима с соответствующим снаряжением…
Глава четвертая
Поэтический вечер на Васильевском
– Отец Никодим – человек, конечно, правильный, – согласился Красовский. – Один из немногих подлинных пастырей, кто меня примиряет с церковью, представленной, увы, теми попами, что более схожи с персонажами мужицких ядовитых сказок… Освятит на совесть, как из пушки жахнет… Только ведь, я так понимаю, нам нужно не прогнать этого… милорда, а докопаться до сути?
– Вот именно, прапорщик, – сказал Пушкин. – Судя по поведению, милорд наш менее всего напоминает классическую нечистую силу, коей по неведомому регламенту положено проваливаться сквозь землю с первым петушиным криком и расточаться в пар при виде креста… Навидался я, судари мои, в Европах созданий, на которых не окажет действия, пожалуй, и пожарная бочка, святой водой наполненная под пробку…
– А посему – на штурм? – понятливо предложил Красовский и принялся сноровисто выбивать из пистолетного ствола пулю с явным намерением заменить ее на серебряную.
– Удивляюсь я вашей безрассудности, господа… – заговорил Тимоша жалобным голосом.
– Дрожишь, – сказал Красовский, орудуя коротким шомполом и даже насвистывая.