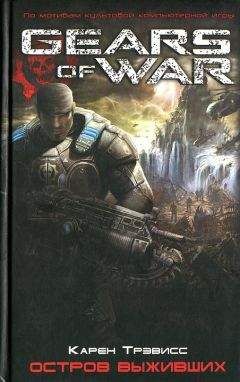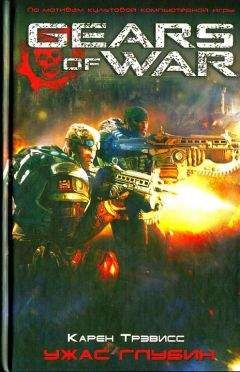Изолятор временного содержания, главный административный блок военно-морской базы Вектес, спустя девять недель после эвакуации из Хасинто, через четырнадцать лет после Прорыва
— Виктор, нельзя быть снисходительным к человеку, совершившему изнасилование. Суд должен ясно и четко дать бродягам это понять.
Берни слышала доносившийся из коридора хорошо поставленный голос Прескотта, говоривший о полученном им дорогостоящем образовании. Ей никогда прежде не доводилось слышать споров между Хоффманом и Председателем. У нее возникло такое же чувство, какое бывает у ребенка, подслушивающего ссору родителей: одновременно ужас и любопытство, и еще почему-то ощущение, что во всем виновата она сама.
— Решайтесь уж на что-нибудь, господин Председатель. — В голосе Хоффмана чувствовалось едва сдерживаемое напряжение. — Либо мы судим преступников-бродяг в соответствии с вашим драгоценным единым для всех законом, либо делаем то, что полагается по законам военного времени. Нельзя пользоваться двумя системами одновременно.
— Наши женщины должны быть уверены в том, что мы защитим их в этом нестабильном мире. — Голос Прескотта звучал тише, словно он удалялся, как человек, у которого есть более важные дела. — Я не слишком разборчив в политике, но я хотел бы избежать террора и неведения. Лучше, когда все знают, почему люди внезапно исчезают.
«Добрый старый Прескотт. Что ты там говорил о разборчивости в средствах? Просто нажми кнопку „Молота Зари“ и отойди…»
Но Берни понимала, к чему он клонит. Она уже хотела выйти к ним и сказать, что все нормально, что она в порядке и они могут делать все, что хотят, — она выдержит суд. Ей не стыдно. И разве все люди — нормальные, обычные люди — не считают, что насильники и извращенцы заслуживают пули в лоб? Она получит медаль, как сказал Бэрд.
«Но как будет относиться к солдатам мирный гражданин, узнав, как именно я расправилась с ними?»
Тот факт, что она не служила в армии, когда убила двух насильников, не имел никакого значения. Сейчас она снова стала солдатом. И ничто не могло вытравить из нее полкового братства.
Хоффман, судя по голосу, отправился следом за Прескоттом.
— Я не позволю, чтобы женщину, служащую в моей армии, заставляли рассказывать перед толпой народа о том, что именно эти животные с ней сделали. И мы ведь не хотим, чтобы гражданские узнали, как она отомстила им, верно? Это подорвет авторитет армии. Они не поймут.
«Вику стыдно за меня. О боже! Ему действительно стыдно за меня».
Прескотт не отвечал. Берни решила, что он ушел.
— Это имеет смысл, — произнес он наконец. — Уладьте это дело, Виктор.
— Господин Председатель, дайте мне хоть раз четкие указания, черт бы их побрал.
— Делайте то, что считаете нужным, чтобы причинить как можно меньше ущерба общественной морали. Я полностью поддержу вас во всем.
«Да уж, я уверена, поддержишь…»
На Берни отрезвляюще подействовал тот факт, что даже главнокомандующий армией не мог сейчас злить людей слишком сильно в их микроскопическом мирке. Все словно ходили по лезвию ножа. Хоффман ворвался в офис и застыл, стиснув кулаки, медленно покачивая головой.
— Прости, Вик.
— Только не смей извиняться. — Он схватил ее за плечи и сжал, наверное, сильнее, чем хотел. — Пропади все пропадом, женщина, ну почему ты сразу мне не рассказала? Я бы… я бы обращался с тобой лучше.
— Вик, я в порядке. Я не пеку торт в честь годовщины этого, но оно и не мешает мне жить дальше. Каждый мой хороший день — это большой пинок в задницу ублюдку, который вон там сидит.
— Я не допущу, чтобы все это мусолили на суде.
— А я вот никак не могу решить, как правильнее поступить.
— Ты же не серьезно? Ты же не хочешь позволить этой мрази красоваться на суде?
— Председатель прав: нужно, чтобы люди увидели, что он понес наказание. Мне плевать — пусть все узнают, что случилось. Но то, что сделала я… Представь, какова после этого будет репутация у солдат? Мы же хорошие парни, помнишь? Мистер Обычный Гражданин не увидит во мне обычную гражданскую женщину-потерпевшую.
— Значит, никакого суда не будет. Отлично. — Хоффман кивнул, глядя на дверь в противоположной стене офиса.
Джон Мэсси, запертый в соседнем помещении, ждал своей участи. В следующие несколько минут нужно было решить, сколько ему осталось жить и как именно он умрет. Это тоже действовало отрезвляюще.
— Тебе стыдно за меня, Вик? — спросила она. — Я просто так спрашиваю, потому что если да, то ничего страшного.
— Нет, нет. Ни в коем случае.
— Ты совсем не боишься того, что во мне, оказывается, живет?
— Оно живет во всех нас, Берни.
— Я сама не верила в то, что смогу это сделать. Но как только начала, все оказалось очень просто.
Хоффман фыркнул:
— Ты думаешь, что Мэсси и прочее дерьмо терзаются подобными мыслями? Они просто грабят, убивают и насилуют. А на следующее утро просыпаются и отправляются делать то же самое.
— Так вот в чем разница между хорошими и плохими? Они делают это и в ус не дуют, а мы делаем то же самое и потом страдаем от угрызений совести? Или мы чувствуем вину, только прикончив червя, но не другого человека? Потому что я живьем разрезала на куски этих ублюдков, а они чувствуют боль точно так же, как черви. И меня не волнует то, что я причиняла им боль, — меня волнует только то, что это оказалось легче, чем я думала.
— Нам следовало поговорить об этом несколько месяцев назад. — Хоффман закрыл дверь на замок. Комната была почти пустой, ее еще не наполнили бумаги и прочие вещи, скапливающиеся в офисе, которым долго пользуются. — Сейчас меня интересует только то, что происходит с тобой, а также с другими моими солдатами. Об остальном человечестве пусть позаботится Прескотт.
— Знаешь что? Я бежала обратно в армию. Для меня армия и есть человечество. Я не хотела уподобляться паразитам, которых встречала. Это пугало меня гораздо больше, чем когда-либо пугал бой. Я даже думаю, что речь здесь совсем не о морали. Это был просто животный страх.
Хоффман пристально взглянул ей в глаза, но не осуждающе, а с грустью и сожалением; казалось, прошла вечность, прежде чем он отвел взгляд. Да, в свое время ему тоже приходилось совершать дикие вещи. Она это знала. Но он действовал под влиянием минуты, а не возвращался, чтобы хладнокровно свести счеты. Хотя она и сама не знала, что это меняет.
— Ну ладно, хватит языками болтать. — Он снова проверил свой пистолет и взялся за ручку двери. — Что ты хочешь сделать? Просто скажи.
Берни ни секунды не сомневалась в том, что Мэсси — преступник. Она не сомневалась в том, что он заслуживает смертного приговора за свои преступления — не только по отношению к ней, но и против ни в чем не повинных людей, которых его банда терроризировала и убивала. Просто в последнее время ее волновали уже другие вещи. Она чувствовала, что ее злоба и гнев постепенно ослабевают. Она уже не была уверена в том, что это действительно гнев.