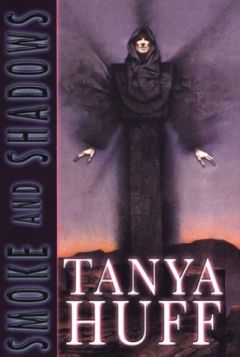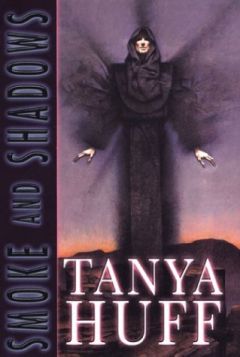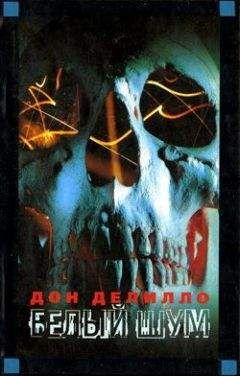Ознакомительная версия.
Вскоре, когда они оказались достаточно глубоко и небесный свет над головой начал тускнеть, сбоку, по мере продвижения, начали один за другим зажигаться светильники – точь-в-точь как в любом из храмовников Универсума. Осветив путь, они гасли сразу за спиной замыкающего.
Бова, как и полагается предводителю, шёл первым. Лесенка была достаточно широка, чтобы по ней могли двигаться по двое в ряд, позволяя тем самым возникнуть множеству очажков бесед на разные темы и интересы. Поэтому рядом с Бовой перебирал ногами невысокие ступеньки Благуша, внимательно слушая то, что тот рассказывал:
– Помнишь ту связку шаров, что была привязана к гарпунному якорю, когда мы ещё возле Махины стояли, встречу праздновали? Ну так вот – их же никто и не отвязал, забыли. Ухарь мне всю команду перепоил, а сам я за всем доглядеть не могу… На якорь-то меня и уронило при взрыве, после чего лишь оставалось эти шары отвязать…
За ними двигались Проповедник с Минутой. Девица, едва не плакавшая от счастья наверху (ведь Бова остался жив), к этому времени уже сумела приструнить своё настроение, придать ему спокойный лад – недаром ведь проходила воспитание в Храме Света, где в первую очередь послушников и послушниц заставляют тренировать силу воли и самообладание. Здесь, под монотонный ритм шагов, она сочла удобным поинтересоваться у Проповедника, что Бова сказал тогда ему у костра, пресекая на корню его ссору с Вохой. И была приятно удивлена, когда дед перед ней разоткровенничался. Ведь в трактире, когда она пыталась уговорить его открыть тайну перемещения через Бездонье, из него приходилось слова чуть ли не клещами тянуть. Правда, потом много чего случилось такого, что, вероятно, сблизило всю их честную компанию, да и тот рассказ о переселении, который дед начал так неохотно, а закончил очень даже увлечённо, видать, выпустил наружу наболевшее и дал его душе изрядное облегчение.
– Что сказал, что сказал, скатертью дорога, – тихо буркнул Проповедник, с едва заметным стеснением шевеля усами. – Да напомнил он мне о кое-каком грешке в молодости моей далёкой. В ту пору, когда я токмо-токмо в домене Рось оказался, после тех елсов и феликсов…
То, что Бова знал о таком далёком прошлом Проповедника, Минуту не удивило. Она знала, что разведчики Бовы нашли и дотошно опросили всех бывших переселенцев из Проклятого домена, которым выпала участь быть свидетелями той давней трагедии. Её позабавило другое.
– Ничего себе молодость, дедушко, ведь тебе уже тогда пятый десяток шёл!
– А сколько ныне, а? – резонно заметил дед. – Вот то-то и оно. Так что и пятьдесят можно назвать молодостью.
– Так что там было-то?
– А ты вот не перебивай, скатертью дорога, до конца и услышишь.
– Уже молчу, дедушко, продолжай.
– В расстроенных чувствах я тогда пребывал, сама понимаешь, – вздохнул дед, помрачнев челом, – семьи токмо лишился… А тут меня одна молодка приютила в какой-то веси, не помню вже названия за давностью, то ли Пютаны, то ли Малиновка, то ли ещё как, да не в том дело. Молодка та три монады тому назад овдовела, безголовый ей мужик попался – пошёл в лес по дрова и не нашёл ничего разумнее, как срубить сук, на котором сидел. Ну и навернулся вместе с тем суком, скатертью дорога. Хоть высота, как молодка сказывала, и небольшая была, да обух топора прямо по темечку засветил. Дудак, он в любом домене дудак. А молодка ведь в самом что ни на есть женском соку, мужика вже распробовать успела, так ей, понятное дело, ещё хочется. – При этих словах Минута, невзирая на всё своё самообладание, отчаянно покраснела, но дед того не заметил, сосредоточенно глядя под ноги, считавшие ступеньки, и продолжая о своём: – Тута я и подвернулся. Утешили мы друг дружку, одним словом. Да токмо ей – хорошо, а мне по-прежнему хреново, скатертью дорога, память-то никуда не денешь. Пожил я у неё декаду, смотрю, влюбляться начала, привыкать… А я – не могу. Не могу ответить тем же, хоть кол на голове тёши. Душа-то по своим родичам, в неизвестном миру сгинувшим, всё ещё болит. Ну и сбежал, скатертью дорога. Сбежал и дорогу забыл. Гуторю же – не в себе был. Опосля, как помотало меня по многим весям и городам, хотел вернуться, да так и не вспомнил, где ж она проживала, много тех Пютанов и Малиновок в Роси оказалось. Да и другие знакомства уже сложились, скатертью дорога. Эх, жизня моя окаянная…
– Что-то я не пойму, дедушко, к чему ты ведёшь… – затаённо улыбаясь, сказала Минута, на самом деле уже готовая побиться о заклад, что поняла, о чём идёт речь. – Зачем Бове тебе об этом было напоминать, с какой надобности? Дело-то житейское, со всяким случиться может…
– Зачем, зачем, – дед досадливо отмахнулся. – Разве не приметила, как мы с Бовой схожи-то? Я как углядел его тогда, с Дирижоплия спрыгнувшего, так показалось – сам себя узрел… Ну и подумкал по своему скудоумию, что пробил мой час, к Олдю Великому и Двуликому пора отправляться и отчёт в его чертогах о всей житухе держать… А оказалось, что просто родная кровь. Сызмальства у меня башка чёрная, а всё, что на лице, – белое. И потомки эвон все в меня уродились…
Минута преувеличенно ахнула, внутренне гордясь своей догадливостью:
– Так, значит, та молодка…
– Угу. Та молодка, скатертью дорога, была прапрабабкой Бовы Конструктора. А я, соответственно, его прапрадед. Вот он навроде как укор мне и предъявил, что прапрабабку его бросил.
Припомнив рассказ деда о переселении, смышлёная девица заметила несоответствие в его словах и не упустила случая подначить:
– Погоди, дедушко, так ты ж говорил, что борода с усами у тебя поседели тогда, когда ты статую Великого и Двуликого увидел, как она вращалась вокруг оси и казала оба лика – добрый и злой одновременно.
– Да это я так, приврал немного, для красного словца, – признался дед. – И нашёл ведь, стервец, время, чтобы меня так уесть этим напоминанием об энтой давней истории! Но молодец, молодец, погасил ссору, иначе бы я Вохе тогда башку открутил, а вместо неё балабойку бы вставил, чтоб, значит, этот стихоплёт похабных вопросов не высказывал, а токмо песни исполнял людям на радость…
* * *
Громадный Ухарь и невысокий жилистый Пивень, топавшие следом, были заняты иной проблемой. Махинист, скорбя совестью, всё ещё ел себя поедом за своё упущение, из-за которого (как ему представлялось самому) Дирижопль охватило гибельное пламя. А Пивень изо всех сил и с небывалой для бывшего бандюка искренностью пытался утешить мрачного от тяжких раздумий великана, с которым успел сдружиться всерьёз – особенно после того, как доказал верность делу в критический момент. Тем, что не бросил ни Бову, ни Ухаря в пылающей котельной.
Ознакомительная версия.