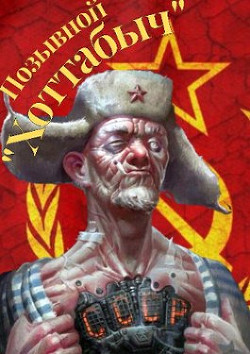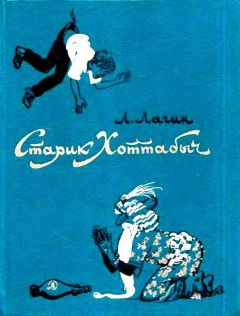— Значит, это ты меня хоронил? А как же моя семья? Дети? Внуки–правнуки?
— Да не было у тебя никакой семьи. — Хоть мои слова и прозвучали жестко, но, правда, она иногда такая злобная сука. — И детей, внуков и правнуков тоже никогда не было. Бляди — были. И нормальных баб тоже хватало. Но в основном бляди.
— Но у тебя же получилось, Старик? — с какой–то потаенной надеждой спросил оснаб.
— Получилось, — ответил я. — Но супружница моя, Глафира Степанна, за счет службы моей до срока в могилу сошла… Переживала сильно, вот и надорвалась, бедная… — На глаза вновь навернулись слезы, ведь до сих пор не могу забыть красавицу мою. — А твоя жена, командир — это наша гребаная служба. А семья — управление контрразведки! Или я не прав, товарищ оснаб?
В ответ Петров лишь согласно кивнул, а я вслух пропел несколько строк незабвенной «Казачьей» Розенбаума:
— Только шашка казаку во степи подруга, только шашка казаку в степи жена…
— Что это? — каменное лицо Петрова неожиданно дрогнуло. Видимо эти простые строчки что–то задели в его душе.
— Одна из песен моего мира, командир.
— Спой, — неожиданно попросил он.
— А че не спеть? Спою. Только певец из меня аховый…
— Ничего, — устало произнес Петр Петрович, — мне в жизни и не такое слушать приходилось…
— Най–най–най-на–на–а-а! Под зарю вечернюю солнце к речке клонит, — прокаркал я надтреснутым дрожащим голосом, с трудом вытягивая мелодию. — Всё, что было — не было, знали наперёд.
Петр Петрович прислонился головой к каменной кладке каземата и устало прикрыл глаза. Его лицо умиротворяюще расслабилось, и он облегченно вздохнул, словно ждал этого момента долгое время. Бетонная стена, отгораживающая мои мысли от колдовского Дара оснаба, дрогнула и развеялась, словно утренний туман в хорошую погоду.
«Давай, дружище, смотри! — мысленно сообщил я ему, и он услышал. — Гляди! Гляди внимательнее! У меня от тебя нет никаких тайн!»
— Только пуля казака во степи догонит, — продолжал напевать я вслух, — только пуля казака с коня собьёт. Только пуля казака во степи догонит, только пуля казака с коня собьёт.
Я вновь почувствовал, как легкий ветерок пронесся у меня в голове, ласково охлаждая мое воспаленное сознание. Но ветер постепенно набирал силу, засасывая меня в стремительно расширяющуюся воронку. И, несмотря на то, что эта набирающая скорость воронка существовала лишь в моем воображении, я чувствовал, как она резво ввинчивается в глубины моей памяти…
Один миг, и я оказался в Государственном кремлевском дворце, куда меня лет десять назад, этакий сморщенный древний огрызок былой, но великой эпохи, буквально под руки притащили на ежегодный концерт, посвященный Дню милиции. И именно в тот день мне вживую довелось послушать Сашку Розенбаума. Послушай и ты, так сказать, в оригинале, товарищ мой оснаб.
— Из сосны, берёзы ли саван мой соструган.
Не к добру закатная эта тишина.
Только шашка казаку во степи подруга,
Только шашка казаку в степи жена.
Только шашка казаку во степи подруга,
Только шашка казаку в степи жена.
На Ивана холод ждём, а в Святки лето снится,
Зной «махнём», не глядя мы, на пургу–метель.
Только бурка казаку во степи станица,
Только бурка казаку в степи постель.
Только бурка казаку во степи станица,
Только бурка казаку в степи постель.
Отложи косу свою, бабка, на немного,
Допоём, чего уж там, было б далеко.
Только песня казаку во степи подмога,
Только с песней казаку помирать легко.
Только песня казаку во степи подмога,
Только с песней казаку помирать легко.
https://www.youtube.com/watch? v=gFZlZP_l7Y4
Я чувствовал, что Петрович, так же, как и я, поплыл от этого грубоватого хриплого Сашкиного баритона. И в это момент наши сознания окончательно слились. Теперь он мог узнать обо мне всю подноготную, но и мне многое стало доступно из его воспоминаний. Не все, конечно: кое–какие уголки его сознания были накрепко заперты и защищены похлеще иного банковского сейфа. Ну, так и должно быть — некоторые секреты нашей работы должны умирать вместе с нами, а тем более никоим образом не достаться нашим врагам!
Я, словно наяву, переживал ярчайшие моменты жизни моего учителя, соратника, боевого товарища и друга: сопливым юнцом я тискал выдающиеся прелести доступных горничных и таскал их по очереди на сеновал, боясь, как бы отец случайно не застукал; я со всем прилежанием исследовал открывшийся дар «осенённого», истязая себя болезненными тренировками до потери сознания и последующих жутких головных болей; первый чин и первые погоны; первые награды и первые поражения; я скакал на взмыленном жеребце, рубая окровавленной шашкой направо и налево, уже не разбирая лиц, друзей и врагов…
«Мозговой вихрь» продолжал раскручиваться все стремительней и стремительней, мешая в одну кучу куски моей биографии и жизненные вехи оснаба. Он остановился в тот самый момент, когда я последним, но точным ударом забил шариковую ручку в ухо гребанного насильника…
Глаза вновь застлало предсмертным туманом, а пробитые обломками поломанных ребер легкие горели огнем. С пузырящейся кровавой пеной на устах я сделал последний судорожный вдох и ухнул в кромешную бездну безвременья…
Смерть стылой шершавой кистью смыла боль. Я попытался вздохнуть, но не смог — в воздухе я больше не нуждался. Пришло понимание, что это конец. Однако, к моему изумлению, способность мыслить и здраво размышлять меня не покинула. Я мыслю, следовательно, я существую, — вспомнил я известное изречение Рене Декарта [1]. Значит, наше бренное существование, что бы там не утверждали воинствующие атеисты, не заканчивается с нашей смертью. Я умер, но вместе с тем продолжаю существовать!
Серый туман забвения постепенно развеивался и, наконец, исчез совсем. Я стоял под пронизывающим ветром на одной из вершин сверкающих ледяным великолепием гор. Внизу, у подножия горы, насколько хватало глаз, расстилался заснеженный вековечный лес с огромными деревьями–исполинами. И сквозь этот лес неспешно и величественно двигался на коне настоящий богатырь–великан в доспехе, похожем на вооружение древнерусского воина. Самые высокие деревья едва достигали его сафьяновых сапог с приподнятыми носами, покоящихся в гигантских стременах.
«Выше леса стоячего, ниже облака ходячего», — всплыли из памяти строчки русской былине о сказочном великане Святогоре, что по многочисленным поверьям некогда жил на высоких Святых горах. Его могучую поступь не выносила сама Мать — Сыра Земля, она сотрясалась, когда он спускался со своих гор, леса колыхались, а реки выходили из берегов.
Я пробежался взглядом по суровому, но спокойному лицу богатыря, заросшему по самые глаза густой пегой бородой, заиндевевшей на морозе и покрытой сосульками. На правом плече богатыря сидел такой же гигантский, как и он сам, нахохлившийся сокол. Колоссальных размеров конь был тоже под стать своему хозяину: такому под копыта лучше не лезть — растопчет и не заметит. Великан медленно приближался ко мне. И вскоре его голова, увенчанная огромным остроконечным шлемом, задевающим медленно ползущие по небу облака, поравнялась с вершиной горы, на которой я стоял.
Великан шумно вдохнул кристально чистый морозный воздух и гулко проревел, обдав меня клубами теплого дыхания, мгновенно превращающегося в пар:
— Давненько в Святых горах русским духом не пахло! За какой надобностью пожаловал, человече? Кто таков есть: как звать–величать?
От его рева заложило уши, а со склонов ближайших гор сошло несколько небольших снежных лавин.
— Ильей зови, Святогор–батюшка! — подстроившись под велеречивость могучего исполина, крикнул я что было мочи. — А за какой надобностью здесь, то мне и самому неведомо!
— Отрадно слышать, что не забыли меня на Руси! — довольно прогудел Велет. — Ну, раз дело ты не пытаешь — прокатишься со мной? Повеселишь старика новыми байками? Тоскливо мне в одиночестве… — Плечи Святогора поникли. — Не с кем, даже, словом добрым переброситься…