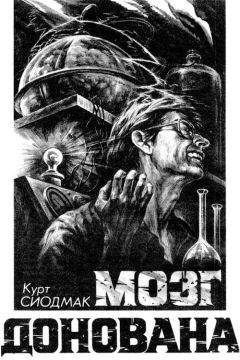— Чего?
— Чего слышал. Вцепился в горло, как собака, и ножом бил без остановки.
— Пиздишь.
— У Дрына спроси или у Липкого, они подтвердят, — Фара вздохнул и нахмурился. — Что с тобой творится? Мы ведь раньше как братья были. А теперь… чужие.
— Да брось херню молоть. Скажешь тоже, «чужие».
— Нет, — покачал головой Фара, — всё изменилось. А ты изменился больше всех. Совсем другой стал.
— И с какого же бока я другой? Ну, сорвался сегодня, моча в голову ударила. Что из этого трагедию-то делать?
— Вот об этом я и толкую. Ты не из чего трагедию не делаешь. Что крысу раздавить, что кореша — один хер.
— Никогда мне Баба корешем не был.
— Даже смотреть на людей стал по-другому.
— Это как же?
— Как на мясо. Будто они не живые. Разговариваешь с человеком и не в глаза глядишь, а… — Фара изобразил руками в воздухе объёмную фигуру, напоминающую голову с плечами, — целиком. Всё равно, что в мясной лавке на свиную тушу.
— Подумаешь, беда какая. Дались тебе эти люди.
— Ты и на меня сейчас также смотришь.
Да, не слишком приятный разговор. Особенно в месте про горло Бабы и мои зубы. Сразу захотелось прополоскать рот. Где-то я читал, что в сознании детей и подростков стоимость человеческой жизни крайне низка. Якобы, они не понимают её ценности, потому как сами прожили всего ничего, не имеют жизненного багажа за плечами, не успели обрасти всем тем, что делает жизнь богаче, разнообразнее, что даёт повод для ностальгии. При этом уровень агрессии в мозгах сопливых малолеток просто таки зашкаливает. Бурлят гормоны. Просыпается инстинктивное стремление стать альфа-самцом, подмять под себя всё, что движется. В комплексе вышеперечисленное создаёт предпосылки для такого жуткого явления как подростковая жестокость. Глупая, иррациональная, безудержная. Милые детки вдруг сходят с ума, перестают играть с плюшевыми медвежатами, грубят старшим, потрошат кошек, дерутся. Это была статья в старом околонаучном журнале. Её автор советовал родителям найти с ребёнком общий язык, серьёзно обсудить волнующие его темы, поделиться опытом из своей молодости, объяснить чаду, что это всего лишь проходной этап в долгой счастливой жизни, что показная жестокость, культивируемая в среде ровесников — не более чем результат гормонального перестроения организма, а на самом деле окружающий мир дружелюбен, светел и прекрасен. Идиот. Интересно, что сей учёный муж сказал бы мне? Смог бы описать светлый, прекрасный мир, ждущий с распростёртыми объятиями за «проблемным» периодом полового созревания? Вряд ли. Думаю, этот писака моментально пересмотрел бы расценки на жизнь в сторону радикального снижения, перед тем, как вскрыть себе вены дорогой ручкой с золотым пером. Или чем там писали в его блаженные времена? Цивилизация кретинов отупевших от излишеств, сытости и комфорта. Не удивительно, что сорока минут войны и трёх следующих лет хватило для сокращения их поголовья на девяносто пять процентов.
Через два дня вернулся Валет, как всегда злой, но с товаром. Фара ни о чём ему не рассказал. Более того, старательно поддерживал видимость «семейного» благополучия, даже пытался шутить и разговаривать со мной на отвлечённые темы. Я всячески ему подыгрывал. Но стоило только Валету оставить нас наедине, всё возвращалось к исходной позиции — хмурая рожа, настороженный взгляд, молчание.
До сих пор не понимаю, чего он на меня взъелся. Посмотрел, видите ли, не так. Какие мы ранимые. Но за то, что Валету не доложил, я был признателен Фаре. Кто знает, как сложилась бы моя судьба, дойди эта неприятная история до ушей нашего дорогого опекуна. Вполне возможно, что он, в силу своей болезненной осторожности, посчитал бы меня неблагонадёжным, представляющим опасность для его драгоценной шкуры. А через неделю, когда подгнившая и изъеденная речными тварями верёвка порвётся, распухший безглазый труп одиннадцатилетнего сопляка поднялся бы из глубин Тёши и, гонимый течением, отправился в последний путь. Но этого не произошло.
На следующее утро Валет снова ушёл, а вернувшись через полтора часа, позвал меня для разговора.
— Есть заказ, — начал он без предисловий. — Крупный.
— На кого?
— Об этом позже. Собирайся, тебя хотят видеть.
Сказано — сделано. Через сорок минут мы стояли перед ничем не примечательным бараком на Казанской улице.
— Будь вежлив и не петушись, — предупредил Валет, прежде чем открыть дверь.
За ней оказалась ведущая вниз неосвещённая лестница, заканчивающаяся ещё одной дверью, гораздо более массивной, со смотровой щелью в проклепанной броне.
Валет взялся за приваренное кольцо и постучал — два коротких, три длинных, три коротких.
Задвижка отошла в сторону, выпуская из смотровой щели луч направленного света, видимо, от фонаря, и вернулась назад. Лязгнули, поворачиваясь, механизмы замка, дверь открылась наружу, демонстрируя впечатляющую толщину и шесть стальных запирающих стержней, каждый диаметром в мою руку.
— Входите, — прогудело из темноты.
Я шагнул внутрь вслед за Валетом, и краем глаза различил очертания громадной фигуры, неподвижно стоящей слева.
— Оружие на стол, — луч света указал на единственный привинченный к стене предмет меблировки. — Не задерживайся, — трубный бас слился со скрипом петель, заставив кишки сжаться, а ноги — прибавить ходу.
В конце тёмного коридора нас встретила третья дверь. И снова тот же условный стук, глаза в смотровой щели и лязг металла.
— Хромой ждёт, — сообщил появившийся в дверном проёме горбун со странным барабанным ружьём через плечо и набитым двенадцатым калибром патронташем на поясе поверх кольчужного жилета, после чего весьма ловко обыскал нас и двинулся дальше по скупо освещённому коридору, жестом пригласив следовать за ним.
Едва мы отошли на пару метров, как дверь захлопнулась, а за спиной послышались шаги.
— Смотреть вперёд, — предупредил невидимый конвоир, заметив, что моя голова поворачивается на звук.
На тот момент опыта пребывания в «учреждениях закрытого типа» я не имел. Помню, как холодок побежал от поясницы к загривку. Крайне неприятно без привычки, не имея даже ножа, шагать перед незнакомой вооружённой особью, в чьи обязанности входит физическое устранение конвоируемого в случае малейшего неподчинения.
Берлога у Хромого оказалась солидной. По стенам дважды поворачивающего коридора я насчитал восемь железных дверей, выглядящих не намного тоньше двух нами пройденных. В трёх из них так же имелись смотровые щели и, плюс ко всему, небольшое прикрытое задвижкой оконце. На сером бетоне пола то тут, то там попадались россыпи тёмных кругляшков, у дверей с оконцами их было больше.