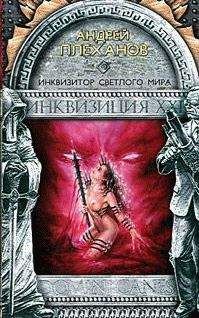Короче говоря, жизнь вроде бы о-новому налаживаться начала, да возьми и случись этот самый Черный День. Потемнело все сверху, как сейчас помню, - Трюфель ткнул пальцем в небо, - снег посреди лета повалил, да такой буран, хуже, чем зимой. Зверье всякое из лесу побежало на поля, повытоптали все посевы. Птицы замертво начали с неба падать. А люди словно с ума посходили - кто в бешенство впал и начал на всех с кулаками бросаться, кто память потерял, в поле поплелся, да так там и замерз. Ну да что там говорить, - парень помрачнел лицом, - тот был еще денечек, думали, не переживем его.
– С ума, значит, все посходили?
– Ага. Мы ж привыкли все время слушать Госпожу. Как неприятность какая случилась - позови Госпожу, и она добрый совет даст. А тут вдруг все люди как один слышать голос Госпожи перестали. Не могу рассказать, до чего неприятно это для нас было. Все равно как половину своего разума потерять. Кое-кто говорит у нас, что в этот день Госпожа Дум померла, потому как мы, Дальние, с того дня ее вовсе слышать перестали. Только я думаю, что все это сущая ерунда. Ведь горожане-то ее слышат, да и Ближние крестьяне слышат, только тихо, а значица, жива она. По моему разумению, в этот День случилось какое-то большое колдовство. Большое и жутко недоброе.
– Ну а дальше что?
– Ну что дальше? - Трюфель развел руками. - Все ж таки пережили мы это гиблое лето. Неурожай, конечно, большой вышел, народу много перемерло, а нового не народилось взамен умершего, как то всегда бывало. Но пережили. И к порядкам новым начали привыкать - вернее, к беспорядкам. Раньше ведь как было - из года в год одно и то же. Сколько человек в деревне померло, столько же и родилось. Сколько оленей в лесу добыли, столько же и снова появится. Пшеница завсегда к Житной неделе поспевала, а ячмень - к Заячьему дню. Дрова заготавливали в лесу в восьмой месяц, и в это время зверье на людей никогда не кидалось. Из века в век так было, и сомневаться в этом в голову никому не приходило. Потому что так было заведено Госпожой и записано в Книге Дум. А тут вдруг все пошло поперек обычая. Погода словно взбесилась, рыба в речке стала горькой на вкус, пшеница стала ветвиться на манер кустов - ажио молотить страшно. Лес испортился - не сразу, конечно, только с каждым разом стало все опаснее соваться туда - такие нечисти стали появляться, что этот мясоверт по сравнению с ними мухой покажется. - Трюф погрозил опасно притихшему лесу кулаком. - И аррастра эта тогда же появилась. Сперва она просто новым сорняком была в хлебах - наподобие цикория. А потом, глядишь, в поля собралась, тогда мы и углядели, что цветочки эти ползать могут. Тут-то мы ее аррастрой и прозвали, «ползучкой», значица. Ну, боролися мы с ней кто как мог. Выпалывали с корнями. Скоту пробовали давать - так он от этой травки как чумной становился. Начали мы тогда аррастру в кучи сваливать да жечь. Так что ты думаешь - так нам это занятие понравилось, что вся деревня работу забросила и только жгла аррастру. Потому как если в аррастровом дыму постоять, настроение такое хорошее становилось, что лучше не бывает. Кажется тогда, что все вокруг добро-волшебное, и легкость в теле необнакновенная появляется, и бабенки все вдруг такие хорошенькие становятся, что хочется немедленно поиметь всех сразу. Что мы и делали…
– ?…
Трюфель порозовел и смущенно кашлянул в кулак. - Ну, в общем, две недели все Дальние крестьяне ничего не делали, окромя как жгли эти цветочки и занимались блудом прямо друг у друга на виду. - Трюфель покраснел окончательно. - А потом появился цельный отряд стражников, ввалил всем селянам по десять плетёв и объяснил, что нюхать аррастру - смертный грех и наказываться будет вырыванием ноздрей и выкалыванием правого глаза. А вся аррастра принадлежит лично Госпоже Дум. Окромя того, предписано нам было выращивать эту мерзость на особых полях, и на каждую деревню была наложена аррастровая подать, причем немалая. Хошь не хошь, пришлось нам высаживать этот вредный сорняк на своем ячмене, чтобы он на нем пасся. Да надо еще собирать аррастру осенью, сушить ее, сдавать ее стражникам да следить при этом, чтобы не нанюхался ее кто по глупости, потому как наказать за это могут всю деревню…
– Трюф, - Цзян тронула не в меру разговорившегося парня за руку, - пойдем отсюда, а? Не нравится мне этот лес. Сейчас выскочит оттуда кто-нибудь похуже мясоверта…
– Чево? Лес?… - Крестьянин мотнул головой, приводя в движение свои неповоротливые мысли. - А, лес! Не, сейчас ничево не будет. Днем все нечисти через границу леса переползти не могут. Ты не бойся. Вот ночью - тогда оно конечно. Тогда здесь лучше не появляться.
Я вглядывался в мрачную живую чащобу, и мне казалось, что я вижу, как быстрые темные тени передвигаются там, прыгают с дерева на дерево, проносятся в кустах, раздвигая их с едва заметным шелестом. Лес Ждал, когда какой-нибудь неосторожный олух вроде меня войдет в него и предоставит свое тело на растерзание голодным зубастым тварям.
Черта с два!
Я отвернулся от Цзян и Трюфеля и помочился на дорогу. Удобрять лес мне больше не хотелось. Не был он достоин этого.
– Поехали, - сказал я, завязывая веревочки на штанах. - Солнце уже садится. Что-то не хочется мне ночевать на дороге.
* * *
Мы с Цзян жили на ферме Трюфеля уже два дня. Нас держали взаперти, как некогда Цзян. Конечно, теперь хозяева не боялись, что мы сбежим. Однако днем высовываться из сарая было опасно. Как утверждали приютившие нас Трюфель и его папаша Мартин по кличке Лысый Хомяк, святоши так и шныряли вокруг. А ночью я и сам не решился бы шляться по Дальней деревне. Вечно голодные твари, мерзкие и непонятные, выходили по ночам из леса и шастали по окрестностям. Только за последний год они умудрились разорвать четырех незадачливых сельчан, по пьянке вышедших облегчиться на улицу посреди ночи. Я не хотел пополнять собой траурный список.
– Вот, значица, приходили сегодня три доменуканца, святоши енквизиционные, значица! - Мартин Лысый Хомяк стоял в центре нашего сарая, расставив ноги, уперев руки в бока, и рассказывал последние деревенские события. Он был очень доволен своей сообразительностью, этот пожилой крестьянин. - Говорят, именем закона, отвечайте, смерды, не скрывается ли в оной деревне или других известных вам местах беглый демоник по кличке Шустряк, особливые приметы: высокий, не толстый, глаза зеленые, на спине следы от плетёв и драться умеет здорово. На что я и отвечаю со всей честностию: нет, мол, господа енквизиторы (жабоглав вам в глотку), подобного отродья не видывали, а ежели бы и появился в наших краях истый демоник, так давно бы отдаден он был в ваши справедливые руки, как то и положено по закону, ибо народ у нас, как вы знаете (дурни вы расфуфыренные), законопослушный и к порядку приученный. Ничего такого мы не видывали, говорю. А эти самые святоши, значица, глазами меня так и сверлют, чуть ли не в душу пытаются залезть. Только это без толку. Раньше ведь как было? Человек и соврать-то не мог, потому как только неправду он говорить начинал, Госпожа Дум все это слышала и знак святошам подавала, что врет, мол, человек. А теперь что? Госпожа до Дальних силою своею не достает, и, значица, енквизиторам только на себя рассчитывать приходится. А своими башками они работать не привыкли…