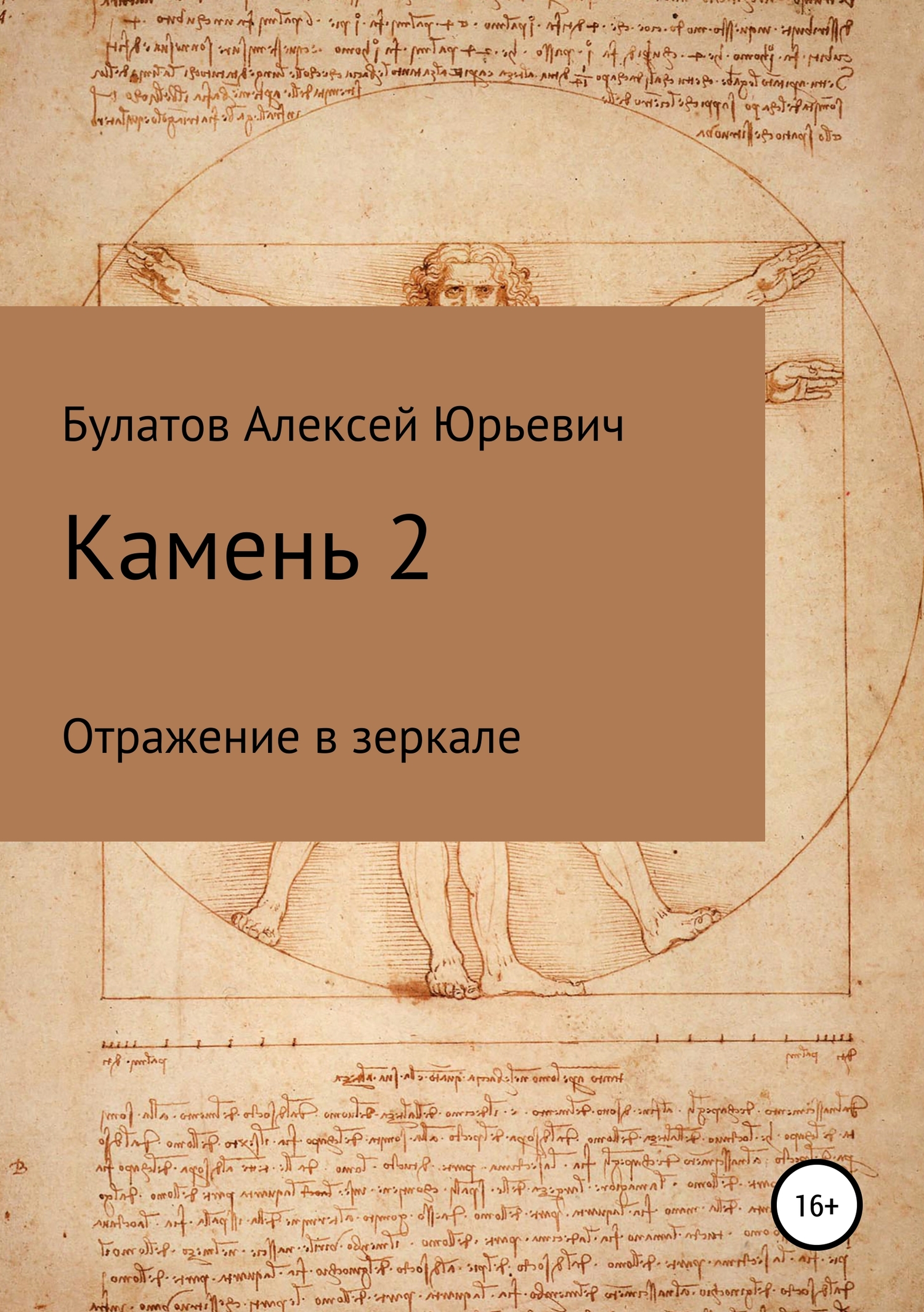чей ребенок, Леся рассказывать отказалась. Нет, мол, никого у меня, и все тут. Одна я всю жизнь, да вот Род послал счастье – Славушкой зовут.
Родослав тогда у Леси в хижине неделю провел. Да так эта неделя изменила молодого воеводу, что пропал он, влюбился без памяти в девушку. Да и она ему благоденствовала. Люб ты мне, воин, говорила, сердце у тебя чистое, хоть и сухарь сухарем. Так и взял он Лесю себе в жены. Ни молвы, ни сплетен не побоялся – как есть, с ребенком взял и ни дня после не пожалел.
– Вот что, сын, – промолвил наконец воевода. – Воли матери твоей ослушаться даже я не смел. И тебе не позволю. О ратной судьбе своей забудь раз и навсегда. Учиться будешь мирному ремеслу. А не станет меня, сам себе путь-дорогу выберешь. Я все сказал. А теперь к писарю ступай да все отработай, что пропустил. Увижу с палкой или с ножами – как есть высеку, не посмотрю, что сраму оберешься. Понял меня?
– Понял, бать, – угрюмо ответил мальчик и поплелся исполнять волю отчима.
Утро в это время года занималось скоро. Только еще, казалось, колкие звезды в окно глядели, как перевернешься на другой бок, а петухи уже глотки дерут, животы надрывают. От отца Славушка шел уже под ласковыми лучами солнца, шишку свою на лбу теплу подставляя. Ухо гореть уже перестало – не сильно отец отодрал нынче. Осталась только горечь душевная да обида на отчима. И такой та обида жгучей была, что слезы из глаз сами капали.
– Что я ему, девчонка али юродивый какой? – бубнил вполголоса Славушка. – Меня – да в картографы… Картинки рисовать… Вся крепость засмеет, коль прознает. А звонче всех Ермолка смеяться будет.
С этим Ермолкой, сыном кузнеца, у него были давние счеты. Еще со школы седьмичной невзлюбили они друг друга. Славушка худой был, кожа да кости, а Ермолай этот сызмальства силу в руках имел. Про таких в народе говорят – «кровь с молоком». Даром, что Род этого дубину мозгами обделил, зато с лихвой силушкой компенсировал. Вот Ермолай все, что требовалось ему, силой-то и брал. Вечно слабых да хворых обижал. И не связывался бы с ним Славушка, себе дороже с такими связываться, так повадился сын кузнеца сестрицу его Маресю обижать. То за косу оттягает, то водой на речке обольет, то словом бранным обзовет. Напакостят, значит, Ермолай сотоварищи, а после всем гуртом за животы хватаются. Потешно им. И всегда вкруг того Ермолки мальчишки, что послабее, крутились. Никак Славушка его одного застать не мог для разговора последнего.
Не стерпел такого обращения Славушка да поднаторел этому Ермолке пакости да козни строить. То травы ему тошнотной в кашу подмешает, то растяжку у дома его состряпает. Ермолка с утра по нужде пойдет, на растяжку ту наступит – ему на голову ведро с помоями и выльется. И хорошо, если только с помоями. Не брезговал Славушка и нужник с чужого двора выкрасть да подвязать в качестве кары небесной. Долго Ермолка докумекать не мог, кто ему жизнь так портит. И, что характерно, никак не мог сообразить, за что именно ему прилетает день ото дня. А связь очевидная была. Напакостит Ермолка днем Маресе или еще кому из детишек, так вечером ему уже ответ уготован. Навредит вечером, так сдача утром следует. И так день за днем, неделя за неделей.
Славушка таким манером месяца три над своим обидчиком измывался, пока не попался на горячем. Подкараулил его Ермолка у себя на огороде, когда тот очередную месть готовил. Поймал да и отходил его по ребрам. Парнишка тогда еле до избы своей добрался, чудом жив остался, но от своего не отступился. Так и заступался за сестрицу свою да за других детишек в крепости. В итоге противостояние то переросло в неприкрытую вражду. Взрослые, как прознали о том, вмешались, конечно, и обоим петухам уши накрутили. Но такие меры лишь загнали вражду мальчишечью в подполье. Оба теперь исподтишка действовали, а Ермолка еще и дразниться удумал. Всё Славушку дохляком кликал да с местными мальчишками горделивого пасынка воеводы подначивал. Кричал: «Мы все воинами вырастем, а ты со своей убогой сестрой коров пасти будешь да тряпками заниматься». Обидны были слова такие для Славушки. Все ему хотелось доказать этому Ермолаю, что и он не лыком шит, что и меч ему впору быть может, и седло, и лук тугой.
А что нынче делать, Славушка понятия не имел. Отец-то, чай, не шутит. Не даст он ему ратником стать, как есть, не даст. И заниматься тогда Славушке бабьим делом на потеху Ермолке и сотоварищам его.
Но делать было нечего. Воли отца ослушаться было еще бо́льшим срамом, да и память материнскую не хотел марать Славушка. Так в думах своих тяжелых и добрел он до крыльца писаря Филарета.
Дед Филарет уже не спал, сидел на крыльце в одних портках да рубахе ночной, перья гусиные точил. Увидел он паренька, угрюмо плетущегося к нему на двор, лукаво подмигнул ему да спросил вместо приветствия:
– Что, ратничек, получил от бати на кренделя?
– Зря вы, дед Филарет, бате на меня донесли, – попенял Славушка. – Я бы и без его приказа к вам сегодня пришел.
– А с чего это ты удумал, что я отцу твоему на тебя донес? Али мне делать больше нечего? Или ты решил, что у бати твоего своих глаз нет? – несурово отбился от мальца писарь. – Отец твой – воевода, он всё про всех в крепости ведает. Неужто он о пасынке своем правды не узнает?
– А все одно, зря донесли, – упрямствовал Славушка. – Не мог он прознать, что я у вас не отрабатывал, коли вы не доложили бы.
– Ты еще поучи меня уму-разуму, щегол, – посуровел дед Филарет. – От горшка два вершка, а все туда же, попрекать старшего. Ты в курсе, что мне отец твой пороть тебя дозволил? Сейчас починю перья да высеку тебя.
– За что, деда?
– Да за дело, внучок, – передразнил Славушку писарь. – Один раз высеку, а опосля еще разочек, чтобы впрок пошло. На будущее, так сказать.
Совестно мальчику стало. Филарет хоть и с чудинкой старик был, но добрый, зла никогда ему не делал. Да и возраст у писаря был таков, что не ему, Славушке, укорять его. Покон велел возраст чтить да мудростью стариков упиваться.
– Прости меня, деда Филарет, – потупил взгляд Славушка. – Просто…
– Судьбу решать свою сам