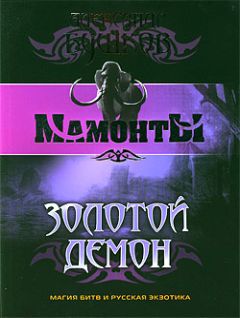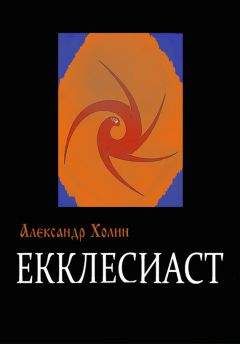— Надо же, вот вы где, — сказал Самолетов. — А мы-то смотрим…
Профессор, шумно отдуваясь, понизил голос:
— Господа, я, кажется, кое на что натолкнулся… Озарение, господа, форменное озарение…
— Да вы уж в полный голос, — сказал Самолетов. — Чужих вроде бы нет, сложилась расстановочка…
— Бирюза! — выдохнул профессор.
— И что — бирюза? — спросил Самолетов.
Выражение лица у него было неописуемое — как у стоявшего под виселицей человека, которому курьер только что вручил некую официальную бумагу — быть может, и царский указ о помиловании, вот только написана она на каком-то загадочном языке, которым приговоренный не владеет…
— Рассуждая логично и подробно все анализируя… — сказал профессор фон Вейде. — У вас все золото пропало, Николай Флегонтович, как у прочих. Кроме портсигара, украшенного бирюзой. Точно так же у Елизаветы Дмитриевны сохранились золотые украшения — с бирюзою… На наших с вами глазах двое пытались поразить Ивана Матвеича клинками. Позин погиб, а Канэтада-сан остался целехонек. Вряд ли у них в Японии какая-то особенная сталь, значит, все дело…
Он показал рукой, переводя дыхание. Канэтада-сан, которому переводчик тихонечко толмачил, смотрел с нешуточным любопытством. Длинная рукоять его японской сабли была украшена крупной бирюзой.
Профессор продолжал:
— Если история господина Четыркина не галлюцинация от спиртного, а реальный факт, все укладывается в ту же концепцию — кинжал персидский, коим он тыкал в незваного гостя, опять-таки украшен бирюзою. Не потому ли он не смеет к Лизавете Дмитриевне подойти? Не потому ли требует, чтобы с нее были сняты все украшения? Черепаха! А? Он боится бирюзы!
— Почему? — ошарашенно спросил Самолетов.
— Представления не имею, — отрезал профессор, — но если мы это допущение примем, очень многое получает объяснение… Противна ему бирюза. Боится он ее. Близко подойти не может или, по крайней мере, вред причинить…
— Толковая мысль, — кивнул Самолетов отрешенно. — Предположим, так оно и обстоит… Точно, очень уж здорово все укладывается. Вот только… Эти, — он кивнул в сторону собравшейся вокруг Ивана Матвеича толпы, — не боятся ни бирюзы, ни булыжника, ни Бога, ни черта. На них этакие тонкости не распространяются. А их там с полсотни… Всех не перестреляешь, если пойдет заваруха.
Профессор выпрямился с лицом, исполненным твердости. Его голос звучал почти что ликующе:
— Ну, а если ему бирюза опасна настолько, что его ею и убить можно?
— А если не получится? — пожал плечами Самолетов.
— А выбор у нас, молодой человек, есть?
…Пальцы чуточку подрагивали от лихорадочного возбуждения. Ругая себя мысленно, поручик, стараясь делать все быстро и правильно, заталкивал округлые зерна бирюзы в ружейный патрон, проталкивал их внутрь большим пальцем. Сунул пыж и аккуратно принялся загонять его пробойником.
Издалека донесся приближавшийся смутный гомон, бабахнул далекий выстрел — ага, началась атака…
— Ну, что вы там копаетесь? — грохнув кулаком в стенку возка, закричал Самолетов. — Они двинулись!
Вот, кажется, и все… Загнав оба патрона в стволы испытанной тулки, поручик мельком бросил взгляд на Лизу — она сидела бледная и спокойная, и на ее лице временами проглядывало то самое чуждое выражение… а если рассудить, и не чужое вовсе… но не было времени уделять этому внимание.
Он выскочил наружу. Там уже стоял Канэтада-сан с винчестером наперевес. Рукоять его сабли зияла пустыми гнездами, ни единого зернышка бирюзы там не осталось, лицо заезжего экзотического гостя было совершенно непроницаемым, только глаза горели нешуточным азартом. Рядом нетерпеливо притопывал Самолетов с ружьем.
От хвоста обоза накатывалась толпа, распалявшая себя дикими воплями. Впереди скакал с крыши на крышу Иван Матвеич, издали видно, пребывавший в самом прекрасном расположении духа. Он взмахивал руками, как птица крыльями — и при каждом резком движении за его плечами и в самом деле обозначалось нечто вроде прозрачно-золотистых, словно бы туманных перепончатых крыльев, — и громко кричал:
— Не подведи, чудо-богатыри! Выручай, родненькие! На штурм, на слом! Помните, что я вам обещал за живехоньких! Воинство мое, не посрами отца-командира!
Судя по его злорадной улыбке, ему, и в самом деле, были свойственны иные человеческие чувства…
— Не стрелять… — завороженно шептал поручик. — Не стрелять… Только по команде…
Переводчик громко толмачил его слова, и это придавало происходящему некий привкус нереальности. Толпа накатывалась, разделившись на два потока, несущихся по обе стороны обоза, подбадривая друг друга криками и почти что звериным воем. Расстояние сокращалось, сокращалось… Поручик не жалел, что все же отдал Лизе тяжелый черный револьвер, — сейчас и мысли, и побуждения, и поступки были другими, не имевшими ничего общего с прежней жизнью, устоявшейся и привычной…
— Огонь! — яростно крикнул он.
Приложился и выстрелил — с невероятным хладнокровием, со всем старанием, на какое был способен. Все, абсолютно все сейчас зависело от твердости руки и меткости…
Рядом раздались выстрелы Самолетова и японца. Толпу это не остановило, а вот…
Омерзительный вой пронесся над заснеженными равнинами. В нем чувствовались боль, досада, гнев… Там, где только что стоял Иван Матвеич, взметнулось нечто вроде высокого пламени из черных трепещущих языков. Ни на что не надеясь, ни о чем уже не думая, отрешившись от всех чувств, поручик Савельев выпустил второй заряд. Последний. Гремели выстрелы стоявших рядом.
Толпа набегавших ямщиков остановилась, словно грянувшись со всего маху в невидимую стеклянную стену. Ближайшие задрали головы кверху, оцепенело таращась наподобие черного пламени, буйствовавшего на крыше возка. Истерически ржали и бились лошади, рванули вдруг на обочину, вылетели в глубокий снег и завязли в нем, отчаянно молотя ногами. Возок перекосился, рухнул набок. Черное пламя, словно сброшенное с крыши, соскользнуло на снег, моментально взвившийся паром, словно туда плеснули целую бочку крутого кипятку.
Они стояли бок о бок, сжимая бесполезные ружья. Исполинский фонтан снега, словно выброшенного беззвучным взрывом… Над равниной пронесся жалобный, тоскующий, полный непереносимой боли, нечеловеческий вой, он словно бы слабел, таял, распадался на отдельные звуки, взвихренный снег медленно осыпался с неба, зияла громадная проплешина, обнажившая темный круг земли, покрытой сухой прошлогодней травой…
И все кончилось. И стало невероятно тихо. Время текло, ползло, тянулось — но Иван Матвеич, неизвестное создание из непонятно какой бездны времен, пропал, исчез, испарился.