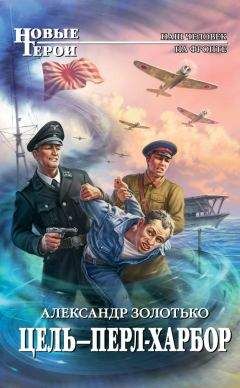– Я не комиссар! – крикнул Торопов. – Я не комиссар! Сейчас нет комиссаров. И НКВД нет! Нет! Мы живем в демократическом государстве! И с Германией у нас хорошие отношения! Вы понимаете? Мы уже двадцать лет… двадцать один год, как не коммунистическая страна. И я…
– Не нужно так нервничать, товарищ Торопов, – засмеялся Краузе и поставил ногу Торопову на грудь. – Если вы уже двадцать лет не коммунисты, то почему с такой нежностью вспоминаете СССР и даже надеваете советскую форму? Вы вот, насколько мы знаем, предпочитаете форму НКВД…
– Я никогда не носил форму НКВД! – задыхаясь, прохрипел Торопов. – Я…
– Он врет, господин штурмбаннфюрер, – с обидой в голосе произнес Краузе. – Он нам врет… Как же так, господин штурмбаннфюрер? Как можно нам врать?
Краузе дурачился, говорил тоном обиженного ребенка, но нога давила Торопову на диафрагму, а нож, кажется, проколол кожу на груди до крови.
– Он еще не понял, что нам врать нельзя, – сказал Нойманн и наклонился, чтобы заглянуть в глаза Торопову. – Нам врать – вредно для здоровья.
– Извините, господин штурмбаннфюрер, – вмешался водитель, – но при чем здесь здоровье? Тем более его. Разговор может идти о боли, о ее количестве, а вовсе не о здоровье. Еще раз извините, за то, что перебил.
– Да, товарищ комиссар… – Нойманн покачал головой. – Общение с вами очень вредно отражается на дисциплине. Младший по званию перебивает меня… Но с другой стороны, он ведь прав. Я был неточен. Действительно, при чем здесь здоровье? Каждое лживое слово обеспечивает вам несколько часов боли. Несколько дополнительных часов.
Нойманн достал из кармана спичечный коробок, взял из руки Краузе нож и несколькими уверенными движениями заточил спичку.
– Вот, казалось бы, – сказал Нойманн, вернув нож подчиненному и взяв спичку двумя пальцами. – Что может быть проще – заточенная палочка. Не кол, заметьте, не клеммы от полевого телефона, приложенные к яичкам товарища комиссара, а всего лишь палочка. Щепка. Но какие перспективы она сулит в руках знающего человека.
Нойманн взял Торопова за руку, тот попытался вырваться, но Краузе переставил свою ногу с груди Торопова на его горло и легонько надавил.
– Вы еще не поняли, что от вас здесь уже ничего не зависит? – осведомился Нойманн, выпрямляя указательный палец на руке Торопова. – Совсем-совсем ничего не зависит… Да не дергайтесь вы так, можно подумать, что в вашем ведомстве такие простенькие фокусы не в ходу. Я думаю, что такая вот милая штучка – первое изобретение человека в области получения правдивой информации. Какой-нибудь питекантроп, загнав себе случайно занозу под ноготь, на всю оставшуюся жизнь запомнил ощущение, и когда ему понадобилось узнать у представителя враждебного племени, где те прячут своих женщин, воспользовался этим рычагом.
Заточенный край спички коснулся ногтя на пальце Торопова. Нащупал плоть. Уперся в границу между ногтем и кожей.
Торопов не видел этого, ему мешала нога Краузе, но чувствовал каждое движение руки Нойманна.
– Не нужно… – простонал Торопов еле слышно.
– Что?
– Не нужно! – громче повторил Торопов. – Пожалуйста, не нужно…
Краузе убрал ногу с его горла, дышать стало легче.
– Вашу фразу следует воспринимать как готовность к ведению беседы? Искренней и честной? – осведомился Нойманн. – Вы готовы отвечать на наши вопросы, ничего не скрывая?
– Да! – громко сказал Торопов. – Я… Я все скажу.
– А если соврешь, то… – неприятно усмехнулся Краузе.
– Я не совру. Я не буду врать! Я скажу… Поверьте мне, пожалуйста, поверьте!
Микроавтобус остановился.
– Сколько у нас еще времени? – спросил Нойманн.
– Полчаса, – ответил водитель.
И снова они говорили по-русски, словно им было важно держать пленника в курсе событий.
– Выходим, – Нойманн открыл дверцу и вышел из салона.
За ним следом выпрыгнул Краузе. Торопов подумал, что сейчас ему прикажут выбираться, но Краузе бесцеремонно вытащил его из машины за ноги.
Земля была твердой, больно ударила по спине и затылку.
Торопов вскрикнул скорее от неожиданности, чем от боли.
Высоко над ним качались сосны. В промежутках между их кронами было видно ярко-голубое небо и белые облака, тоже яркие. Как на открытке. Пели какие-то птицы.
– Поднять? – спросил Краузе.
– Поднять, – разрешил Нойманн. – Прислони его к дереву. Вот к тому.
Краузе и водитель подтащили Торопова к сосне, рывком поставили на ноги.
Торопов вытер скованными руками лицо.
– Действительно, – вроде как спохватился Нойманн. – Руки-то мы ему оставили спереди. А это неправильно. Мало ли какие иллюзии могут прийти в голову нашему дорогому комиссару.
Краузе расстегнул браслет на правой руке Торопова, завел ему руки за спину и снова защелкнул наручник.
– Вот так значительно лучше. – Нойманн подошел к Торопову, обмахиваясь своей шляпой, как веером. – Сегодня жарко, не находите? А ведь нам еще работать…
Пальцы Нойманна расстегнули пуговицы на плаще. Пола отошла в сторону, и Торопов вздрогнул, увидев под плащом черный мундир.
Эсэсовский, тут не спутаешь. В левой петлице – четыре серебристых кубика. В правой – пусто.
Почему у него пустая петлица, зачем-то спросил у себя Торопов. Это ведь что-то значит. Нет у Нойманна ни рун, ни листьев, ни мертвой головы… Значит это что-то, ведь значит…
Когда-то об этом переписывались на одном из сайтов. Не СС? Точно, не СС. Гестапо. Кажется, это у гестапо ничего не было в правой петлице. Гестапо?
Торопов похолодел и прижался спиной к дереву.
Гестапо-гестапо-гестапо-гестапо… Сердце выстукивало это проклятое слово все быстрее и быстрее, ужас заливал мозг, ледяными струйками стекал по горлу к сердцу и там застывал комками, как растопленный жир на морозе.
Эти шутить не будут. Эти не шутят… Эти…
9 июля 1941 года, Юго-Западный фронт
К полуночи аэродром затих. Даже комэск эскадрильи «чаек», примостившихся на краю аэродрома бомбардировочного полка, перестал терзать свою гармонь. Старлей был уверен, что виртуозно владеет инструментом и что все окружающие просто жаждут насладиться «Барыней» в его исполнении.
Летал комэск лучше, чем играл. Гораздо лучше. И парни его эскадрильи летали хорошо. Отлично, можно сказать, летали. Им за это прощали «Барыню», и сегодняшнюю драку с зампотехом простили, не стали раскручивать и доводить дело до трибунала. Опоздавший к самому мордобою Товарищ Уполномоченный как ни бился, но ничего внятного на бумагу занести не смог. Даже зампотех синяк на своей скуле списал на удар о крыло «чайки» во время осмотра.
Неловко повернулся – и мордой о плоскость, сказал Петрович, глядя в глаза Товарища Уполномоченного. И ничего такого. Какая драка, товарищ лейтенант? Вы что, как можно? Чтобы лейтенант на военинженера руку поднял? Да вы что? Это вам кто-то соврал, точно говорю – соврал…