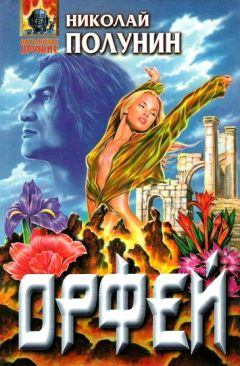— Или тысяча из тысячи, — буркнул я. Эх, если б это было так! Но Кролику я об этом не скажу.
— Или тысяча из тысячи. Разве эксперименты, в которых вы участвовали, вас не… кгхм. Извините.
— Вот именно. — У меня похолодели кончики пальцев, но я справился. — Я не экстрасенс.
— Вы не экстрасенс. Или как еще называют: сенситив.
— Я никогда не предсказывал землетрясений, наводнений, чернобылей, челленджеров, и че… черт знает чего еще.
— Это делали другие, много кто, — согласился он. — По следам великих трагедий вообще всегда выясняется, что их только ленивый не предсказывал. Речь не о том, вы ж знаете.
Я знал.
— Я предельно откровенен, так как убежден, что на данном этапе хотя бы мы — союзники. То есть я-то убежден, что мы союзники вообще, но, что бы я ни говорил сейчас, вы все равно в это не поверите. Не поверите же?
— Не поверю.
— Черт с вами, не верьте пока. Так хоть на время примите, что я вам не враг и пришел я к вам тоже не от хорошей жизни. Игорь, вы по-прежнему не согласны рассмотреть меня как частное лицо? — вдруг спросил он.
Я повернулся на бок, кровать скрипнула, вздохнула пружинами. Из нее — я знал — просыпалась очередная горсть мусора. Когда-нибудь она рассыплется вся.
— Как вас ни рассматривай, а вам всем от меня что-то надо.
— Да, надо. Вы должны начать работать. Неважно, находясь где. Здесь… или в любом ином месте, как хотите. Условия будут созданы. Для издания в том числе. Да вы сами знаете.
Ну вот и все. Слова сказаны. Вот зачем он приехал. Кролик. Любые условия и великолепные возможности. Только пиши. Что хочешь. На что прежде не хватало времени, денег для пропитания, веры в перспективу издаться. Еще чего-нибудь. Кто из людей моей профессии не отдал бы за это руку, лишь бы работать другой?
Однако писать «что хочешь» они мне теперь не дадут, даже если бы я сам захотел. Со мной станут обращаться как с дейтерием, близким к критической массе. Он же соображал, «чем рискует», когда шел сюда, мой храбрый Кролик… Вот черт, он действительно должен быть уверен, что рискует смертельно, если не хуже. А держится молодцом.
— Я, наверное, должен вас поблагодарить, что вы полагаетесь на мою порядочность. По отношению к вам лично в смысле безопасности.
— Я надеялся на это.
— Вы можете не беспокоиться, я действительно больше не напишу ни строчки, ни полслова.
Молчание, в котором мне что-то чудится. Не пойму что.
— Обязуюсь также не насылать на род людской чумы, мора, пепси вместо воды в водопроводные трубы, космических и иных катаклизмов.
— Я полагал, что если бы захотели, вы давно сделали бы это. И если бы могли.
Не пойму, улыбается он там, что ли?
— Откуда вам знать границы моих возможностей?
— Да их никто и не знает, помилуйте, Игорь Николаевич. В предыдущих опытах, по-моему, только-только на них начали выходить…
Снова неловкое молчание, но Кролик его преодолевает:
— Вам предлагается точка зрения. Относиться к своему… скажем так, «дару», хотя явление гораздо шире, не как к какому-то кресту, а как к инструменту, которым стоит научиться пользоваться, только и всего. Что же, сбежали вы сюда, видите, и что? От себя самого-то, а?.. Предлагается вам наилучший выход. Имеется ведь не только эта точка зрения, которую я предлагаю, — имеются разные. В том числе и относительно вас лично…
Да, несмотря на ставший каким-то казенным голос, полная ясность и откровенность. А может, окончательные условия так и надо ставить, казенно и скучно. Тут остаться мне не позволят, значит, надо соглашаться. Пока еще просят добром. Он вообще неоправданно гуманен, Кролик. Зато больше ничего про меня не знает. Он приехал ко мне прежнему, а я уже другой. Не знает про Дом. Не знает, отчего мне так бросилась в глаза его красно-черная сумка. Про нее, между нами, я тоже только смутно могу предположить.
— Боль проходит, — вдруг сказал Кролик очень проникновенно из своего угла комнаты. — Боль проходит, Игорь, и это самое лучшее, что в ней есть. Да в ней больше ничего хорошего и нет, поверьте мне, я знаю. Я — знаю.
Ух, как я его возненавидел за эти слова! Хитрый, вкрадчивый Кролик! Но я ничего не ответил ему, потому что мне нечего было возразить: боль действительно проходит.
Собственно, она уже прошла.
* * *
И я уснул тогда, что само по себе очень странно после столь серьезного разговора. Сон, приснившийся мне, был лишь первым в череде этих удивительных снов, сквозь которые меня будто протаскивала мягкая, но настойчивая рука. Она будоражила воспоминания, о которых я хотел бы забыть сам, и поднимала те, что ушли сами собою, а иногда даже открывала мне то, о чем, как я полагал, и знать не знаю. Но это все было во мне. Извне не привнеслось ничего.
Впрочем, довольно скоро мне было разъяснено, с какой целью это делалось. Цель была — заставить меня вспомнить о себе самом, но, разумеется, не все вообще, а лишь интересующую Перевозчика сторону моей жизни.
Да, ему еще отчего-то требовалось, чтобы, вспоминая, я сохранял позицию стороннего наблюдателя.
* * *
Он был атеистом по стечению обстоятельств. Так уж они складывались.
Родиться ему довелось среди людей, чьи два, а то и три поколения были заняты либо тяготами, вытекавшими из прошлой жизни, либо борьбой за жизнь лучшую, но никак не жизнью как таковой. Люди эти, ближние и дальние, среди которых он рос, переходили из суток в сутки, из года в год, зачастую ощущая себя почти во всем счастливыми. Вычеркивали из памяти и книг прошлое, придумывали почти всамделишное будущее, пренебрегали настоящим, как безделицей неуловимого и ненужного в хозяйстве мига.
Итак, «стеклышки цветных воспоминаний»…
Из карапузного детства. Шкаф светлого шпона под лаком, застекленные скрипучие дверцы, книги битком. Спиртовой термометр в аквариуме, похожий на невиданный какой-то леденец, прекрасный и недоступный. Совсем просто: молоток — палец — рев.
Опять шкаф. Тянешь книжку из плотного ряда за верх корешка, тот лопается с веселым звуком. Процесс и звук привлекают, и проделываешь операцию со всеми томами, до каких можешь дотянуться. Ремень — рев — угол. В углу можно было слюнить палец и рисовать какие хочешь загогулины…
С течением невообразимо долгих лет впечатлений прибавляется. Ребята со двора, огромная раскатанная горка в лесопарке, что рядом, драки «на Ледяной» — куча на кучу, стенка на стенку, район на район. В одну из зим во дворе был устроен снежный дом, пещера в бульдозерном отвале особенно обильного в тот год снега. Единственная свечка чуть пробивается сквозь сизую мглу дыма от набранных у магазина чинариков. Зализанные дыханием стены. На ворохе пальто и телогреек по пояс голая — снизу — девочка, едва опушенная. Ребята постарше меняются, он в числе мелких только смотрит. Девочка хихикает и время от времени хрипло матерится сквозь отрывистое сопение мальчишек. Это сильное впечатление.