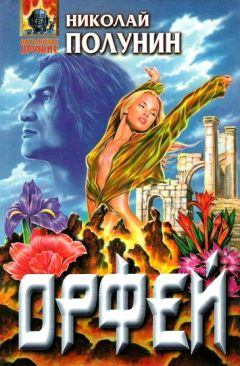Как ни считать, а все это было детство и, вне зависимости от скоропалительных женитьб, юность.
Все быстрее скакали цифирки на табло, бежали по золотым усикам электроны, в скорости света прибавлялось нулей. Мир приобретал иные краски, неудержимо накатывалось то, что давным-давно названо Ее Величеством Судьбой.
И в один из дней он горько пожалел, что никогда не верил в Бога. В одного — или многих сразу, все равно.
* * *
Еще более странным было то, что я проспал. Краешек солнца сквозь перекрестье рам добрался до трехтомника Монтеня на третьей снизу полке, а значит, — четверть восьмого. Как это я так?
Я вспомнил имя, которым мне представился Кролик. Михаил Александрович Гордеев, вполне нормально. Вряд ли настоящее. Гордеев перелистывал снятую с полки книгу.
— «Сперва металл на тяжесть ты попробуй. Затем взгляни на блеск. Затем на зуб возьми. И лишь пройдя три испытанья, он золотом назваться может». — Он взглянул на меня, проснувшегося, поставил книгу на место. — Интересные стихи.
— Почему вы меня не разбудили?
— Сам только глаза открыл. Хорошо у вас спится. Спокойно, В деревянных домах всегда так.
— Не всегда. — Я прикусил язык. Нечего с ним разговаривать, с Кроликом. Я все еще находился во власти удивительного сна. — Как поедем? И когда? На утренний мы опоздали, теперь до восьмичасового ждать. Выходить в семнадцать. На всякий случай.
— Ну, зачем же нам ждать, — добродушно сказал Гордеев. — Ждать — что может быть хуже. Только догонять…
Он вытащил из внутреннего кармана своей лайковой куртки плоский приборчик, нажал несколько кнопок. Ага. Угрюмо хмыкнув, я пошел на крыльцо. Вернулся, умытый, а Гордеев вновь стоял у полок.
— «А что сверх всего этого, сын мой, того берегись: составлять много книг — конца не будет, а много читать — утомительно для тела», — процитировал он из мягкого томика с папиросными страницами. — Прекрасный девиз для литератора! И закладка здесь, смотрите-ка. Перечитываете на сон грядущий? Для укрепления?
— Подумаешь, закладка, — сказал я сварливо. — Там их сотни две, закладок этих.
— Поглядите, ничего я не забыл?
Он уже собрал мой чемодан, прекрасно ориентируясь, где что лежало, что следует взять. Я по инерции вновь удивился
— А вот еще… — В руках у Гордеева была следующая книга. — «И наконец…»
— «И наконец, одни философы называются физиками, за изучение природы, другие — этиками, за рассуждения о нравах, третьи — диалектиками, за хитросплетения речей», — сказал за него я заложенную цитату. — Диоген Лаэрций. Слушайте, может, хватит развлекаться? Поставьте книгу на место. Что вы там вызвали?
— Транспорт Неужели вы думаете, что я без транспорта?
— Не иначе, вертолет. По всем законам жанра должен быть вертолет. А перед ним погоня. С автоматными очередями, визгом покрышек и лохмами рыжего огня на перекувыркивающихся автомобилях.
— Ну нет, — Кролик уже откровенно смеялся, — хватит с меня вертолетов. Перекусить перед дорогой мы успеем. Машину я в километре оставил, но пока они проберутся…
— Молодцы?
— Как без них. Не сердитесь. Давайте позавтракаем, я без вас не стал. Выпьете граммульку или?..
Я демонстративно налил себе из закопченного чайника черного брусничного отвара. Без сахара. Мой здешний чай.
— А-а, — сказал Гордеев. Сам он, к моему огромному изумлению, наполнил кружку до краев двенадцатилетним «Джонни Уокером», подмигнул мне, выпил медленными глотками, как воду. Снова подмигнул. — Вы уж меня простите, Игорь. Это я в порядке аванса вам. За грядущие бои, в которых не смогу, к сожалению, поучаствовать на вашей стороне лично. Ну-с, еще одну. Все повеселей будет…
Я, разумеется, не понял, что он хотел сказать, и молча смотрел, как он расправляется со второй такой же кружкой. В четырехгранной бутыли осталось совсем на донышке. Вот это Кролик! Потом он снял со стены свою сумку и стал собирать в нее не допитое и не доеденное нами. Ничего не забыл и тут — даже пустые банки и обертки. Подотчетное там у них, что ли? Но я, как мне показалось, догадался, зачем он все собирает. Не хочет оставлять следов своего пребывания. Отпечатки пальцев с кружки, книг, прочего тоже будет стирать? А как насчет запаха?
Гордеев не стал стирать отпечатки. Со стороны заброшенной дороги раздался гудок. Автомобильный.
— Присядем на дорожку? — Не дожидаясь меня, Михаил Александрович уселся вполоборота, так что я видел его розовый, налившийся не то от виски, не то от хозяйственных усилий затылок.
Я тоже опустился на чемодан. Наверное, я должен был сейчас что-то такое испытывать, но ничего не было. Уподобившись только что лазившему по цитатам Гордееву, я вспомнил: «Конец твоего мира приходит не как на произведении искусства…»
И что-то там еще. «Его приносит паренек-рассыльный…» Конец моего мира. Моей второй, здешней жизни. Будет ли третья? Третья… Что же я такой пустой?
С дороги опять посигналили. Не терпится им. Не пер Михаил Александрович на себе свою замечательную сумку, не надрывался.
Я запер Дом, как всегда, уходя надолго, на два замка, и ключи засунул на сухое место под крыльцом. Дорожка к роднику, которую я начал мостить чурбачками, поставленными на попа. Огород. Набитый на две зимы вперед стог дров. Мои планы, бесхитростные достижения, которыми я еще вчера только и гордился. Дом. Я взглянул назад. Ничто не изменилось в Доме из-за того, что еще один из его временных хозяев покидает его. Не так ли уходили все они, прежние, кто не умирал прямо в нем?
Не знаю, можно ли назвать это новым знанием, что открылось мне здесь, но я вдруг начал понимать их всех, моих предшественников (краткие перекупщики не в счет), кому Дом давал приют и защиту. Их историй я так и не сумел прояснить при своих редких заходах в ближайшие деревни, и — один-единственный раз — осторожными справками в райцентровском краеведческом музее. Память здешних жителей простиралась от силы на одно поколение дальше памяти горожан, а Дом был много старше. В музее не знали. У доживающих век бабок в полумертвых деревнях не осталось никаких баек-сказок. Ничего.
Но те, кто приходил в Дом со своим смятением и горем, кому находилось в нем отдохновение, краткое ли, долгое, как повезет, — они были. Я так же убежден в этом, как и в том, что наше прощание с Домом не навсегда. Даже — что надолго.
С Гордеевым мы обогнули заросли можжевельника. Я собирал под его кустами подосиновики, далеко не ходя. Увидел я, на чем Михаил Александрович прикатил. Не очень разбираюсь в иномарках. Здоровенное чудовище на высоких огромных колесах, цвет самый пижонский, ярко-фиолетовые чернила.