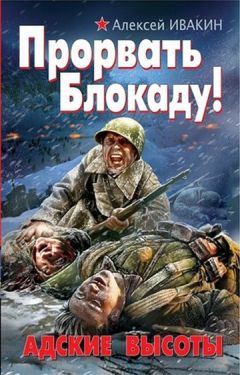— Ваши документы… — небрежно козырнул мне лейтенант. Еще двое стоят по бокам. Блин. Чувствую себя преступником.
Я удивляюсь:
— Эээ… У меня с собой нет. В лесу-то мне зачем? Они — в лагере.
— В каком лагере? — рассматривает мое лицо милиционер.
— Поисковом, отсюда метров двести. Там, где землянки. Видели?
— Рюкзак покажи, — командует он.
Я ухмыляюсь. В рюкзаке ничего нет. Снимаю, протягиваю ему. И тут же думаю — 'Блин! Сейчас подкинет чего-нибудь'. Но нет. Поковырялись в рюкзаке. Достали, зачем-то фляжку, потрясли.
— Распиваешь? — без тени улыбки шутит лейтенант.
— Исключительно по праздникам, товарищ лейтенант! — я продолжаю ухмыляться.
— Ага… Зязев! Проводи до лагеря поисковичка. Документы посмотри у него.
Я надеваю рюкзак, и мы идем по тропе. Рядовой милиции Зязев за спиной. В башке вдруг мелькает дурная мысль — интересно, чего будет, если я побегу?
Я от нее отмахиваюсь, как черт от ладана. Еще не хватало так пошутить.
— Товарищ рядовой, а чего за облава-то? — обернувшись на ходу, я спрашиваю мента. Тот молчит. Только показывает своим укоротом — шагай, шагай!
Переходим через речку. А в лагере суета. Милиции понаехало… Сверка списков, документов. Твою мать, а я в списках — не значусь!
На меня никто не обращает внимания. Просто идем до землянки.
— Чего, дед! В плен попал? — орет заметивший меня Дембель. — Сейчас тебя в концлагерь отправят! Будешь знать, сволочь фашистская!
Достаю свой паспорт, протягиваю рядовому. Он долго и внимательно изучает его. Потом козыряет:
— Оставайтесь здесь, в лагере. В лес не выходить.
Разворачивается и уходит обратно.
Я иду к столу. Ритка, Юра и Еж копаются в своих отрядных документах — списки, заявления, разрешения, справки, инструктажи…
— Чего происходит-то? Шо за ахтунг? Партизанов ловят что ли?
— Уйди — не мешай! — отмахивается Рита. Я пожимаю плечами и отправляюсь к костру.
Около него стоят мужики и курят.
— Мужики, таки шо происходит с бедными поисковиками? Кому стали нужны наши грязные носочки?
— Снусмумрики завтра приезжают, — говорит ДядьВов, пыхтя трубочкой.
— Который из них?
ДядьВова долго смотрит на меня, а потом выдает:
— Не скажу!
— Это еще почему?
— А ты же немец фашистский! Ну как из фаустпатрона убьешь всех? А? Вот приехали в серых мундирах, ищут тебя.
— Кстати, да. Форма у ментов на немецкую похожа, — встревает Юди.
— Полицаи, одно слово, — фыркает Буденный.
— У немцев — серо-зеленая, — пыхтит ДядьВова.
— Фельдграу, — поправляет его Змей.
— Чего? — переспрашивает его ДядьВова. — Какое еще ельдфрау?
— Фельдграу. Цвет такой, — Змей умным жестом поправляет очки.
— Я такого слова в русском языке не знаю. Серо-зеленый и точка. Фельгравами твоими пусть немцы свою форму называют. А я русский человек — и по-русски называть буду. Они же морпехов наших по-своему называли — шварцентодт. Вот и я буду ихнюю форму серо-зеленой называть. А то удумали… Шпрингминен, фельдграу… Тьфу!
ДядьВова смачно плюет в костер. Тот шипит в ответ.
— Да не ворчи ты, дядьВов… — говорю я. — Толком скажи — чего случилось-то?
— Завтра мероприятия на Синявинском мемориале. Приедет кто-то из этих — тычет он в небо. — Кто — не знаю. Приехали вот, с проверкой. Из лагеря велено не выходить.
— Ну, блин… — сказать, что я расстраиваюсь — ничего не сказать. Тут меня осеняет:
— А в Питер уехать можно?
— Сегодня — можно. Завтра уже нельзя. Дороги, сказали, перекроют. Мы сейчас на лехином 'Соболе' до Кировска махнем. Затаримся на пару суток мясом и…
— …и еще мясом, — заканчивает фразу Дембеля Буденный. — Ты с нами?
— Ага. Оттуда в Питер выберусь.
— На кой фиг тебе с нами тогда? — говорит Юди. — Васька со Степкой собираются тоже ехать. Подбросят тебя до города. Тебе ночевать-то есть где?
— Есть, — киваю я. В Питере у меня много друзей, у которых можно переночевать.
И бегу наверх, к палатке Степана и Васьки. Они уже сложили ее. Укладывают в видавшую виды 'шестерку' барахло. Договариваюсь с ними. Потом бегу складывать свою шнягу.
И уже через пятнадцать минут мы выезжаем на грунтовку, ведущую к 'Журавлям'. Вспоминаю, что не попрощался со всеми. С другой стороны, чего прощаться-то? Десятого в поезде встретимся.
Оглядываюсь на уплывающий лес. Сердце вдруг начинает ныть.
Так бывает, когда ты видишь на улице котенка, гладишь его, кормишь с руки. А потом уходишь от него, а он бежит за тобой и пищит. Вернее, он кричит, просто его крик тебе писком кажется. А тебя дома ждет жена с аллергией на кошачью шерсть.
Оно у меня всегда ноет, когда я уезжаю из леса. Да еще так неожиданно. Как будто я предал всех. Бросил, что-то важное. Умом я понимаю, что завтра в лес не удастся выйти, что лучше уж уехать сегодня, что повидаюсь с питерскими друзьями.
А сердцем…
А сердце остается под Синявино…
Я никогда не вернусь с войны. Потому что с войны не возвращаются никогда. Она будет жить в тебе, в твоей крови и в твоих костях. И неважно, что по тебе не стреляли. Ты — обычный солдат похоронной команды.
Внезапно я вздрагиваю и кричу Ваське:
— Стой! Стой, собака злая!
Васька резко давит на тормоз так. Что я едва не вмазываюсь в низкий потолок 'четверки'. 'Четверки' — не танка. 'Четверки' — жигуленка.
— Мужики, я ложковилку забыл на столе!
— Блин. Что орать-то? — Васька говорит исключительно правильно, по-питерски. Это мы, 'вяццкие валенки' чокать привыкли. — Звякни Ежу, он заберет и передаст.
— Стыбздят дети, а ведь подарок же! Мать же… Я сейчас, только туда и обратно!
Ваське возвращаться неохота. Мы уже проехали пару километров от 'Чертового моста'. Я его понимаю — жена ждет, дочка. Принимаем соломоново решение. Рюкзак едет с ними, а я, по-быстрому, в лес, да и обратно. Рюкзак у него вечером заберу и поеду отсыпаться-отмываться к друзьям. Только надо решить проблему выбора. А то на части рвут — непонятно, к кому ехать. Толи к Уксусу, то ли к Захару.
Хлопнул дверью, махнул кепкой в след, перепрыгнул кювет, все еще полный воды, и пошел, по прямой, до лагеря. Заблудиться тут невозможно. Лишь бы менты не привязались опять.
Через несколько десятков метров, войдя в густой подлесок, я, неожиданно для самого себя, сел на мокрую землю. Жаль, геморройку в рюкзаке оставил. Фиг с ней. Ложусь и смотрю в голубое небо — высокое-высокое.
Где-то там, на облачках, сидят пацаны, которых мы похоронили вчера. Сидят, ногами болтают, махру свою небесную курят после небесных же 'наркомовских'. Иногда мне кажется, что это они решают — когда нам жить, а когда умирать. Бред, конечно. Ангелы, возьмите меня к себе? И они улыбаются мне в ответ солнечными зайчиками, шепчут что-то листвой деревьев. И курят. Даже запах чувствуется, честное слово.