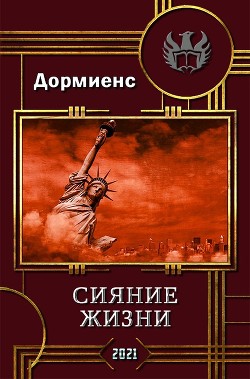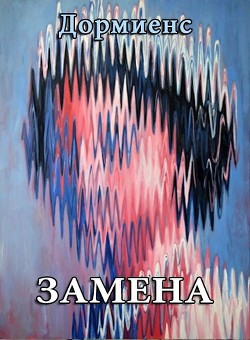Нужные команды отданы, фрегат ищейкой мечется по невысокому взгорью, а в мозгах затихает буря чужих недо-разумов. Акаги сказала, что дело не в «Сериях». Сказала, что проблема во мне, что моя идеальная совместимость с ними — это совсем не обязательно означает удобство и приятность. В конце концов, я ведь псих.
Я, помню, тогда смотрел на нее и видел, что профессор врала: все было не так просто, и она до одури боялась. То ли снова ее творения оказались куда страннее, чем предполагалось, то ли еще что. В конце концов, не моя печаль. Машут клинками? Машут. Дырявят врага из коил ганов? Дырявят. Слушаются меня? Еще как. Пусть еще, мать их, перестанут лезть мне в голову — и я буду счастлив. А проблемы самозарождения разумов и метания всяких еваделов меня не колышут.
Ну и где же ты, последний из «Чистоты». Сколько их было уже — этих последних? Они все вплывают и всплывают, и их биографии давно перестали интересовать меня. Каждый из них работал в организации, которую кормили с рук еваделы. Евадел теперь остался один, а следов из прошлого — много. Что не ясно? Все ясно, отец. Подробности связей «Ньюронетикс» с фашистами? Ничего не знаю, и знать не хочу. Разрешите идти?
— Я что, уснула?
Явление второе.
— Вроде того.
Аска шлепнулась в кресло рядом и зевнула.
— Ну, и где этот гад? — полюбопытствовала она, изучая экраны. Трогать что-либо в кабине я ей запретил, даже радарные и визирные панели. Не люблю я этого.
— Драпает. Судя по сигналам, вызывает свой корабль.
Она кивнула, массируя себе плечи: опять, скорее всего, в медблоке дрыхла вместо того, чтобы нормально улечься у меня в кровати. «Гордость у некоторых не лечится».
— Я Бетховена включу.
«… и вкусы — тоже». Ну что за существо: в кабине боевого фрегата слушать музыку. Хотя марши…
— Да мне плевать. Только в наушниках.
Аска хмыкнула и демонстративно включила громкую.
«О, черт». Мелодию даже я уже знал. Это был чертов «Marsch Des Yorckschen Korps», и меня, наверное, будут жарить в аду под эту бравурность и пафос. Я пожал плечами и отвернулся, чувствуя испытующий взгляд рыжей: та, наверное, на какую-то реакцию надеялась, дескать, чтобы я одобрил или вскипел от негодования. Но это значит: пререкаться, выяснять, что-то обсуждать.
Скучно. И голова от этого болит даже безо всяких «Серий».
— Навевает, правда?
Явление третье. Я ее когда-нибудь пристрелю. Один из самых дурацких ее подкатов: мол, давай поговорим о прошлом. Подразумевается, само собой, «о нашем прошлом», причем, о прошлом, которого никогда не было: мы никогда не слушали вместе эти ее марши. Да и всего остального тоже не случилось.
— Мне не нравится.
— Понятно. Поставить джаз?
А это уже что-то новенькое. Сорью смотрела на меня, и я сейчас отчетливо видел, зачем мне нужна эта рыжая стерва. Вызов. Постоянный и непрекращающийся, словно на тебя навели ствол, и никакая «Серия» от такого не прикроет. В такие моменты я точно знаю, почему тогда, среди горящего управления я не нажал на курок. А ведь можно было бы даже не мараться: просто приказать «Серии» нанести последний — сто какой-то там удар по истерзанной кукле. «Тем более что я давно уже путаю, кого как убил: кого руками „Серии“, кого своими собственными».
Можно было всего этого избежать, и этого разговора тоже. Можно было, и, наверное, стоило, потому что на нее периодами находило, и находило чертовски неслабо. Она доставала меня какими-то мелочами, что-то вышаривала там, в прошлом. Какие-то глупые эпизоды. Аска вспоминала, как Редзи Кадзи вешал мне на грудь медаль. Я запомнил, что этот фарс был в большом каком-то зале, а Аска говорила о пустых глазах скешника. Я едва помнил даже формулировку: «За пресечение узурпации полномочий и чего-то там», — а рыжая все не могла успокоиться и пыталась рассуждать о самой Кацураги. И это при том, что ни черта о ней не знала. Даже как погибла капитан. «Вообще-то майор, — поправил я себя. — Пусть всего два дня — но майор».
Аска устроила длинные ноги прямо на пульте аварийных пусков, она смотрела в обзорный экран и, казалось, плевать хотела на то, что я ее разглядываю. А мне почему-то виделась охапка кровоточащих тряпок, которую я притащил в «Ньюронетикс». А когда я вернулся с очередного задания, она встала с коляски и что-то сказала.
Вспомнить бы, что.
Голову раскололо: «Серии» разом взвизгнули в моем разуме. Они ненавидели мою память. Да что там — ненавидели. Они ее обожали, и это сводило меня с ума.
— У нас тут какая-то птичка на радаре, — сухо сообщила Аска откуда-то из-за звона мигрени. — И хватит уже пялиться на мои ляжки.
Раздирая ногтем висок, я выдвинул консоль наведения «рельсы».
Прицельные метки все туже затягивали петлю вокруг ионолета Пиллера, а из динамиков строевым шагом шел марш, и ему было несколько веков. «Отличная музыка, чтобы проделать в ком-то дыру. Веселая».
* * *
Берег моря почти не имел запаха: немного тянуло йодом и серой, да и то — скорее, нос больше додумывал. Гарь от сожженного челнока сюда не добивала: похоже, на Воде совсем не водилось ветров, и вялые волны, тихо шипящие у берега, вроде как соглашались с моим выводом.
Я держал перед лицом ладонь и шевелил пальцами, пытаясь на фоне неба рассмотреть, где там стык синтетического протеза и моей родной плоти: оглядываться по сторонам что-то совсем не хотелось. Вода оказалась гаденьким миром — ярким, красивым, но отвратительно пустым. Наверное, те, кого прислали сюда оценить возможность колонизации, были тонкими натурами. Сразу почувствовали, что это, скорее, мир-могильник, и задвинули планету в конец списка.
Тут хотелось спать. Лежать и дрыхнуть, без конца рассматривая мглистые сны.
— Скажи, ты всем доволен?
Обычно этот вопрос задают мужчины женщинам, а не наоборот. Я скосил глаза и понял, что Аска не о сексе. Рыжая смотрела в фиолетовое предзакатное небо.
— «Всем» — это ты сейчас о чем?
— «Всем» — это значит «жизнью», болван.
Аска потянулась и без упора на руки села. Ее кожа слепила под лучами умирающего солнца, и это было красиво, должно же быть хоть что-то красивое в этом мире, пусть даже это красивое — синтетика.
— Жизнь — дерьмо, Аска. Тебе ли не знать.
— А. Ну, да.
Это я легко отделался. А еще мне спать охота.
— Ты знаешь, почему я пошла за тобой?
Сглазил.
Я приоткрыл глаза. Аска все так же сидела, слегка согнув колени, но теперь она обернулась и смотрела на меня из-за плеча. «На руке песок налип», — рассмотрел я. Хороший такой, крупный белый песок. Это, а о чем она, собственно, спрашивала? Ага… Можно, конечно, ответить, что ей больше некуда идти. Что у нее больше ничего нет. Что я могу еще раз превратить ее в набор изувеченных органов — и она все равно меня поймет. То ли запоздалая совесть за Аянами, то ли еще какая тонкость — мне лень разбираться. Аска будет давать подзатыльники на заданиях, обзывать «болваном», но поймет. И ничего не скажет.
О, точно. Когда она поднималась тогда мне навстречу из инвалидной коляски, она ничего не сказала.
С другой стороны, что я знаю о ней? Именно, ничего. И не надо мне оно.
«Как хочешь, — сказал отец. — Хотя фрегат рассчитан на десять человек». Человек?.. Девяносто процентов экипажа и так не люди. «Пусть летит, — сказала Акаги. — Пока я не найду решения, она будет удерживать тебя от безумия». Да, наверное.
Аска ждала ответа, и глаза у нее были совсем тусклые.
— Наверное, потому что ты себя ненавидишь. И поэтому не видишь места лучше, чем рядом со мной.
Рыжая помолчала. Я смотрел снизу вверх в это лицо и видел еще одну причину: ей, как и мне, все равно.
— Потому что я тебя люблю, мудак.
«Вон оно как». Аска улеглась, сцепив ладони под затылком.
— Впрочем, ты тоже прав, — добавила она.
Небо стремительно темнело, и я, засыпая, почувствовал жжение в груди, не беспокоившее меня с тех пор, как в баке с LCL мне заменили сердце. Первый в мире человек с фантомными болями сердца. Шикарно.