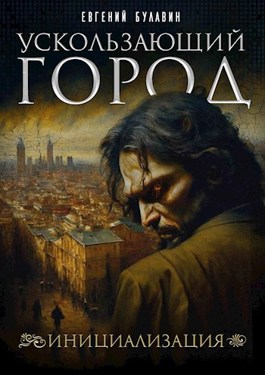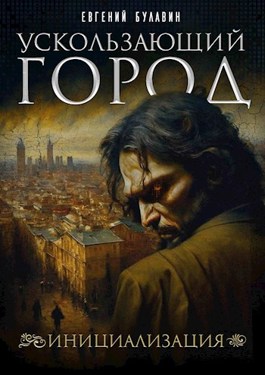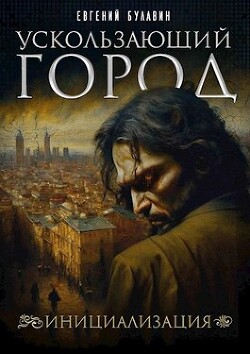пахнет изо рта? Ничем…»
— Зачем ты пришёл ко мне, Судия? — мягко, почти ласково спросил «Ангел».
— За местью, — услышал Инокентий свой суховатый ответ.
— Это не совсем правда. Это… твоё понимание.
Подскочив на ноги, «Ангел» схватил свой стул. Инокентий улавливает глухой удар и треск дерева. Приоткрыв глаз, он видит, как лицо безумца озарила внезапная догадка.
— Это они прислали тебя? Зачем?!
— Покарать виновного, — тоном Йишмаэля ответил Инокентий.
— Все виновны. Различна только степень вины. — «Ангел» неожиданно упал на колени. На его глазах засияли слезы. Его грудь сотрясалась в беззвучных рыданиях. Этот гигант в человеческом теле виновен. — Я расскажу тебе. Я расскажу тебе, Судия.
«Ангел» пополз за листочками. Инокентий услышал, как он ставит стул на место, садится и раскладывает их на коленях.
— Ты прости, что по бумажке. Там… — в Гоголевке, — я осознал, что мыслей у меня слишком, много мусора, много важного, но бесполезного для определённого момента…
Он прочистил горло и начал читать нараспев:
— «Здравствуй, кем бы ты ни был. Перед твоими глазами проносится вся моя жизнь — или, по крайней мере, осмысленная её часть. Для того, чтобы вывести эти мысли, я измарал тысячи листов бумаги… Признаюсь, друг (можно, я буду называть тебя другом? Если нет, мысленно подменяй это слово, каким захочешь), идея дистиллировать мою истину, вычленить из неё самое главное, возникла не сразу. Однажды глянув на эту кипу, я понял, что должен как-то мотивировать читателя взяться за мой труд. Но когда последняя точка легла на бумагу, подобно гире, уравновешивающей все предыдущие знаки, я понял: это было подсознательное желание отделить семена от плевел.
Где, друг, ты начинаешь мыслить? На кухне, готовя горячий ужин? Облегчаясь в сортире? Запершись в чулане от внешнего мира? Или когда спишь на уроках? А при каких обстоятельствах? Я начал мыслить, когда пьяная мать избивала меня, девятнадцатилетнего. Раньше я воспринимал её побои как справедливость… кару за мелкие детские грешки. Когда она избивала меня в те недели, когда я вёл праведную даже для ребёнка жизнь, я выдумывал причины, почему она это делает, или воображал себе, что она делает это, потому что наказание за предыдущий грех оказалось недостаточным. Но тогда, в девятнадцать лет, закрываясь рукой от её бутылки, я впервые задался вопросом «почему». Мозг привычно подобрал оправдание — накануне я занимался первым сексом, — но вдруг я понял, что она никак не могла об этом знать. Тело само уворачивалось от её кулаков — о, в него вбили все приёмчики моей матушки! — а я оборачивался на мою жизнь и понимал, что о львиной доле прегрешений она не знала и знать не могла. Мысль эта ожгла меня как кнут. Тогда я впервые сделал то, что мысленно отрабатывал годами: провёл контрудар и повалил её на грязный, неделями не мытый пол. Помнится, меня удивило, как легко это вышло. Она была удивлена не меньше меня. Её поросячьи глазки стали наполовину менее мутными. В них блеснул… позже я понял, страх, но не тогда. Я спросил, «почему?». Почему ты избиваешь меня? О-о, ожидал многое, я бы даже не удивился, если бы она сказала, что я приёмыш. Но она расплакалась.
ОНА БЕСПОМОЩНО РАЗРЕВЕЛАСЬ, ВЫТИРАЯ СЛЕЗЫ ГРЕБАНОЙ ГРЯЗЬЮ С ПОЛА!
Тварь ныла и извивалась в предчувствии ответных побоев… эта тварь думала, что я буду мстить. Она требовала, она умоляла, она говорила, что я достаточно взрослый… Когда до меня дошло, что́ она от меня хочет, я в ужасе отшатнулся… избить родную мать… её тело содрогалось от страха, когда она изрыгала эти мерзости… она даже от порезанного пальца визжит как свинья…
Я сбежал. В голове не укладывалось, что все, что она со мной делала, было не правосудием, а подготовкой к этому дню. Дню, когда я должен был отомстить. На следующий день, ночуя у друга, я догадался, что это были алкогольные бредни, и она избивала меня просто из-за своей жалкой жизни. Ещё я понял, что не она была мне правосудием, а я сам. Будь на моем месте кто-то другой, послабее духом и менее склонный к выдумыванию идиотских смыслов, оправдывающих её действия…
Я сам мог быть себе правосудием!
Эта опасная мысль стала указательным знаком к свободе. Опасная потому, что я мог ослепиться свободой, приняв её за вольницу. Вольница — потакание своим слабостям, а свобода — узда для них. Я догадывался, что мои ещё не оформившиеся мысли не новы. Я нашёл их у одного парня… его имя и так очернено тупостью двадцатого века, потому я не назову его имени… он стал моим учителем, а его мысли стали моим зданием, коему я придумал облицовку.
Мы не свободны. С каждой секундой мир набрасывает на нас новые нити, тысячи ниток, которые одна за другой сковывают нас не хуже стальных цепей. И если мать, которая сама того не ведая привела меня к истине, до какого-то момента имела полное право на меня, то что я должен своему жирному начальнику? Да и мать не имела на меня права — она породила меня в слепой похоти, а не в любви или расчёте, так что я ей должен? Если бы она сама того не ведая не привела меня к истине, я бы вообще ничего не должен был ей. О, меня посещало желание отомстить. Быть может, убить… Но я понимал, что это просто несчастная женщина, которая не смогла смириться с тем фактом, что все мудаки, с которыми она водилась, ходят к ней только за грубым сексом без обязательств… и презерватива. Что ни один из этих мудаков не Тот Самый. Это была слабая, некогда красивая женщина, которая не нашла в себе силы признать, что лазурные мечты и повышенное самомнение дают в сумме только пустоту, которую необходимо чем-то заполнить… или разрушить.
Запомни, друг, алкоголь разбивает стены, но не пустоту. Чем больше стен ты сломаешь, тем шире разрастётся пустота, пока не заполнит тебя целиком и не пожрёт изнутри. Зачем причинять боль той, кто десятилетиями пожирает себя изнутри? Я желал уйти — куда-нибудь подальше, в Сибирь, чтобы в тиши и покое отыскать формулу свободы.
Но добираясь дворами до вокзала, я встретил Ангела Господня. Он снизошёл на эту землю в потоках белого пламени, окутанный светом и хором праведников. Его фламберг пронзил идущего передо мною мужика. Я был в смятении. Он обернулся на меня. Его глаза были как две вечности, ограниченные нечеловеческим самоконтролем. «Иди», сказал он, «и покарай виновного, Судия!». Не помню, как именно, но