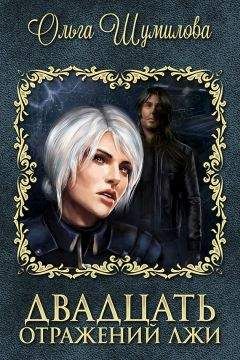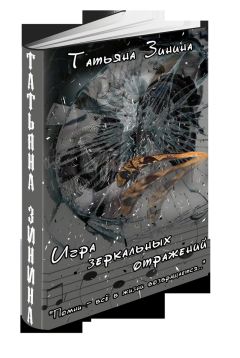— Вы идите… Идите! А мама мне пока сказку расскажет, — кивает Кетта на портрет и усаживается на пол, скрестив ноги. Терпеливо ожидая сказки. И, без сомнения, она ее услышит. А я…
— Ну идите же! Там защелка сбоку, — подталкивает детский голосок. — Ох уж мне эти взрослые… Он вот тоже бука — со мной разговаривать не хочет. Но одному же скучно сидеть! Да еще целый месяц!
Месяц?…
Провожу пальцами по раме портрета, и сбоку действительно находится небольшой рычажок.
Какой еще месяц?…
…Я стою перед закрытой дверью и не решаюсь коснуться ее. Не решаюсь вдохнуть, очнуться и осознать, что просто сплю.
Дверь открывается сама — чернильно-черным провалом, надежно скрывающим того, кто толкнул тяжелую створку изнутри. Снова иллюзии… Ты умел ткать их из воздуха, а, живя среди смертных, этому научилась и я… Мы много лет играли иллюзиями настоящей жизни, правдой, что переворачивается, отражаясь в зеркале — как в старой, глупой игре чужого народа… обманывая друг друга и весь мир заодно. Кое-что нашли, потеряли больше, но главного сделать так и не сумели: не нашли того, кто прятался — себя. И потому победителей не оказалось.
Но, глядя сейчас в темноту, впервые за четыре года я начинаю надеяться, что слишком рано начала подсчитывать очки…
На пороге застывает тень, не попадая в круг света.
— Кетта… Я же просил… Иди к себе.
Тихий голос, неотличимый от шелеста ветра. Или ветер, гуляющий по пустым коридорам?
— Но я ведь не одна, — заговорщицки шепчет Избранная, прикладывая пальчик к губам.
— Неужели?
Шаг. Другой. Моя рука тянется в черноту проема, почему-то не замеченная, не отброшенная, и тонет в темноте.
А иллюзия делает шаг, вдруг упираясь в мою ладонь. Плотная, теплая… живая.
— Правда, хороший сюрприз? — проказливо улыбается четырехлетняя девчушка и дергает себя за хвостик. — Дядя Тан сказал, вам понравится.
На меня, не отрываясь, смотрят из прошлого яркие синие глаза.
— Я же просил! Кетта! — напряженным звоном отражается от стен. — Тан совсем сбрендил?!
— Как… — тихое, беспомощное слово.
— Уходи, — тень отступает, растворяется черноте.
Мы играли так долго…
Достаточно сделать один-единственный шаг — следом, и можно сыграть еще. В последний, самый последний раз…
Перешагиваю через высокий порог, и в тот же миг сквозняк захлопывает дверь за моей спиной. Слепым ребенком вскидываю руки:
— О чем ты просил?
— Никогда тебя не видеть, — от хриплого голоса веет холодом.
— Почему?
Руки наконец находят неуловимую тень, стоящую в шаге от меня, и я делаю этот шаг…
Непослушные пальцы скользят по воротнику рубашки, шее, зарываются в отросшие волосы.
— Уходи, — его руки вздрагивают и пытаются оттолкнуть. Ложатся на поясницу, проводят по спине… мягко, почти лаская. И отталкивая.
— Не хочу…
Я тянусь к нему, тянусь всем телом. Притягиваю к себе непокорно вскинутую голову и прижимаюсь губами к его губам, неподатливым, не желающим отвечать.
— Хватит. Хватит! — глухой голос, неровное дыхание. Почти рык. И — вдруг обнявшие руки. Горячо, до боли, до слез… до тихого вздоха. Почти признание. Склоненная голова, губы, легко касающиеся щек. Почти…
— Так почему? — мой шепот легко разбивается на эхо и уходит в темноту.
— Слишком больно.
Закрываю глаза, незрячие, слепые, прижимаюсь лбом к его груди. Он целует мою ладонь, прикладывает к щеке…
— Но как ты смог?…
— Я не смог. Зато смогла моя мать — удерживать от распада душу, пока в этом мире не восстановили тело. Не знаю никого, кто еще мог бы быть способен на такое…
Я провела по гладкой, без единого шрама, коже в распахнутом вороте рубашки.
— Значит, простили?
— Может быть.
— А меня?
— Прекрати…
Темнота… единственная настоящая богиня — ты. Ты любишь нас. Любишь укрывать нас своим покрывалом, любишь давать нам надежду. Все поцелуи, которыми закрывают мои губы, неуверенные, горячие, нежно-горькие — твои. Все объятья, от которых перехватывает дыхание — твои. Сегодня все — твое, до последнего касания горячей кожи, последнего сонного поцелуя, последнего слова, сказанного шепотом. Сегодня мы твои дети.
Дети, прекратившие наконец играть.
Мы разбили свои зеркала. А дальше… А дальше мы будем просто жить.