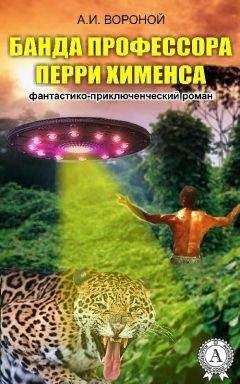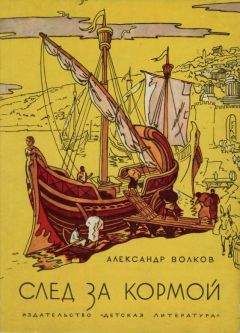Из динамиков снова послышался шум волн; на левом экране вновь засверкал бирюзой океан. И та же лодка в воде, те же загорелые люди, но теперь уже они работают веслами, продвигая лодку в безбрежную соленую пустыню. Навстречу лодке несутся, словно оторвавшиеся от кратера вулкана, огромные длинные океанские волны, окрашенные в багровый цвет. Из‑за кромки океана, из‑за темно‑синего горизонта выползает кровяное солнце. С шумом плеска о лодку волн сливается постепенно какая‑то неземная музыка. Набегающие волны вздыбливают лодку на огромную высоту, затем опускают в водяной каньон.
— С ними не надо бороться! — выкрикнул кто‑то в зале.
— Кто сказал, что с ними не нужно бороться? — спросил тотчас профессор. — Я понял, что не нужно бороться с шумами!
— Это я предложил, Гpeгopи Волкер. Можно попробовать как‑то использовать помехи для усиления наших же сигналов, — пояснил он свою мысль.
— Как это сделать? — спросил Хименс.
— Я пока не знаю… Вы видели волну, подхватившую сейчас лодку? — Гарфи уже повторял кадр. — Так вот, шумовые волны‑помехи должны подхватить, мне так думается, альфа‑волны ГСД.
— Идею Грегори можно выразить графически, — произнес, чему‑то улыбаясь, Ленг Мун, уже пробираясь к доске. — Вот, например, идет большая волна. Пусть это будет шум, — он провел сверху торчавших, как колья, огибающую эти штришки линию, поверх нее нарисовал синусоиду с маленькой амплитудой. — Как на воде, по большой волне бежит мелкая рябь! Так, по мнению Волкера, можно попытаться смоделировать этакий симбиоз биоволн с шумами.
— Здесь что‑то есть, но это «что‑то» нужно довести до конца! — вещал в микрофон Перри Хименс, вытирая вспотевший лоб. — И это нужно сделать сейчас же. Через час‑другой оно утратит свою новизну. Объявляю пятиминутный перерыв! Никому не выходить!
* * *
Тони Эдкок, толкая одной рукой тележку с бутербродами, пепси‑колой, пивом, бумажными стаканчиками, а другую, подняв с приветственно сжатым кулаком, улыбаясь и кланяясь во все стороны, вошел в спецзал.
Органная музыка, отрывок из «Пассакалии» Иоганна Себастьяна Баха, властно зазвучала в зале, разделяясь в стереодинамиках по тональности, множась и опять же сливаясь в неповторимое единое созвучие.
На левом экране появилось заснеженное пространство, и больше ничего. Ни скоростных дорог, ни домов, ни роботов‑дворников, ни деревьев, ни малейшего кустика. Камера неизвестного оператора как бы поднималась вверх, в само поднебесье, и белое пространство все увеличивалось и увеличивалось, убегая и растягиваясь во всю ширь, убегая до самого горизонта. И там, впереди, словно мухи поздней осенью, чуть копошились микроскопические черные точки. Камера подала крупным планом нарты, собачью упряжку, путешественника, очередного, вероятно, безумца, старавшегося добраться в одиночку до Северного полюса.
Лай собак, визг, скрип полозьев, хруст снега под ногами закутанного в меховую оранжевую курточку человека, лисья шапка на голове. И все звуки раздавались так отчетливо, будто тот, одиночка, чокнутый, брел где‑то совсем рядом, у самого экрана. Скрип снега напоминал, что мороз был сильный, не менее шестидесяти градусов ниже нуля.
— Кто это?… Кто это?… — послышалось в зале.
Все притихли, магически уставившись на экран. Даже и сейчас, в век космических пассажирских перелетов, в век атомных самолетов, такие вот походы одиночек к Северному полюсу, почти всегда совершавшиеся на санях конструкции времен Амундсена и Скотта, с собачьей упряжкой, без применения обогреваемой одежды, вызывают восхищение у людей. Часто такие броски одиночек к полюсам заканчиваются трагически, но число желающих испытать себя все росло и росло. И часто могилы их были там же во льдах, затеряны на огромном белом пространстве. Так пропал без вести пять лет назад и парень, которого любила Джун Коллинз, и который работал в этой же лаборатории, весельчак и отличный специалист по слабым взаимодействиям Семми Рикс.
И словно услышав вопросы из зала, невидимый оператор укрупнил кадры, опустившись на снег. Красное обмороженное лицо человека в черных очках, на бороде сосульки, незнакомец упирается плечом в шест, толкает нарты; рыжие собаки в упряжке выглядят злыми, тощими, уставшими. Путник останавливается, чтобы перевести дыхание, снимает очки, протирает стекла, медленно, медленно поворачивает голову назад, куда‑то смотрит в синюю даль.
— Семми! Это Семми! — вдруг закричала Джун и, опрокидывая стулья, побежала к экрану. Она водила руками по лицу Семми Рикса, пытаясь поцеловать того, обнять за шею. — Это Семми, — как‑то тихо повторила она, повернувшись к залу и глядя с немым укором на антресоль, на высунувшегося Дагена.
Тому почему‑то стало неуютно, он спрятался. Но тут же появился Гарри Грорэман, выпучив свои черные глаза на Джун.
— Останови его, Гарри! — попросила та, опускаясь на подставленный профессором стул. — Останови его, — опять прошептала Джун, и ее голова склонилась, плечи задрожали; плакала она не совсем красиво, по‑бабьи, навзрыд.
Даген продолжал крутить ролики, продолжал показывать последний день, скорее всего, именно последний, Семми Рикса. Миссис Клементс на своем табло высветила красный предупредительный сигнал, но профессор, кивнув ей, что, мол, вижу, не прерывал фильма. Да и на втором табло, у миссис Боумэн, светился зеленый знак, чуточку багровея с края.
Ни Даген, ни Грорэман не обязаны были докладывать Хименсу, что они будут транслировать в зал заседаний и как. Накануне совещания они обговаривали с профессором некоторые вопросы возникшей проблемы, уточняли, кто может выдать наилучшую идею, как могут влиять остальные на ход эвристического коллективного мышления. Даген знал всю подноготную, или почти всю, каждого. Знал привычки сотрудников, их увлечения, семейные затруднения, временные разногласия, планы на отпуск, увлечения спортом, хобби, характер и темперамент, волевые качества.
Снова камера стала подниматься вверх. Возможно, эффект создавался за счет применения объектива с переменным фокусным расстоянием. И на экране пространство белой пустыни разрасталось, заполняя собой всю его площадь. Бесконечность снежной западни, бесконечность еще непокоренного пространства, еще не пройденного пути. И все это, умноженное на мороз, сложенное с мыслью, что тебе никогда не дойти до цели, что еще нужно будет вернуться назад и опять пройти тот же бесконечный путь, а запас продуктов тает на глазах, может свести с ума и сильного человека. И трудно вдвойне тому, кто начнет так думать уже в начале пути к полюсу. Это гибель. И лишь уверенность, или, точнее, бесшабашность, помноженная на точный расчет, может спасти человека от разрушающей его изнутри, как червь, мысли, что он на тысячи километров в этот белой прорве один, что его шаг неизмеримо мал по сравнению с расстоянием до конечной цели.