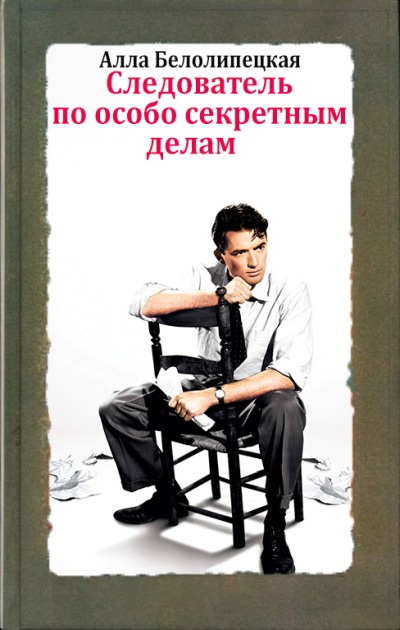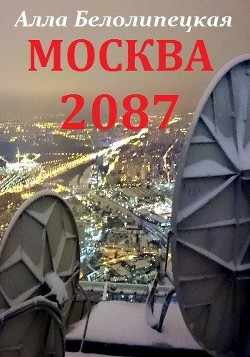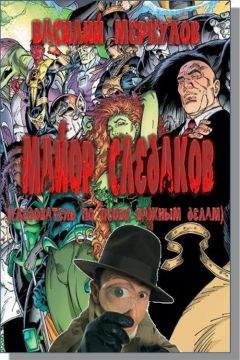спрыгнул прямо на ходу. Ваш знакомец, Бондарев, ехал вместе с другим сотрудником МУРа в водительской кабине. И они, представьте себе, ничего не услышали.
2
Когда Скрябин подошел к двери своего кабинета, возле неё уже переминался с ноги на ногу Миша Кедров. А за дверью – это еще с середины коридора было слышно – надрывался телефон. «Денис, должно быть, мне звонит, – подумал Николай (он сам разрешил телефонистке на наркоматовском коммутаторе переводить на свой секретный номер все звонки Бондарева). – Будет сейчас меня спрашивать, куда Самсон мог бы пойти». Но проблема-то как раз в том и состояла, что Скрябин понятия не имел – куда.
Однако телефон прекратил звонить прежде, чем Николай отпер дверь ключом, и они с Михаилом прошли внутрь.
– Какого ж рожна ему потребовалось бежать? – в сердцах произнес Миша.
Он знал о том, что произошло – как и половина московских сотрудников НКВД: ориентировку на Давыденко разослали по всему городу. И Николай считал: только вопрос времени, когда именно Самсона поймают. Ну, сколько тот мог бы прятаться – в своей форменной гимнастерке с серебряным кантом на воротнике и рукавах, с нарукавными нашивками, на которых в поле щита были изображены меч, серп и молот? А главное – с наручниками на запястьях? Хорошо, хоть в ориентировке четко значилось: взять живым.
– Давыденко решил, что проект «Ярополк» его предал, – сказал Николай, – и что выручать его мы не станем.
И это было частью правды. Но именно что – частью. Этот побег Давыденко, а еще утренние события – когда Денис и второй муровец застыли столбами, не двигаясь с места, – наводили на размышления. Вплоть до сегодняшнего дня Скрябин считал: Давыденко попал в «Ярополк» по чистой случайности. Принял участие в расследованиях проекта и проникся естественным интересом к его деятельности. Однако теперь Николай думал: а не прозевал ли он, часом, наличие у Самсона впечатляющих парапсихических способностей?
– Может быть, – предположил Михаил, – Давыденко решил сам искать того мерзавца, который его подставил? А ведь для этого ему нужно оставаться на свободе!
И в этом тоже был резон. Если бы Самсон открыл в себе дар, о котором раньше не подозревал, он точно употребил бы его, чтобы поквитаться с человеком, навлекшим на него все беды.
– Если он отыщет негодяя раньше нас, то почти наверняка убьет, – сказал Николай. – И допросить его мы уже не сможем. Так что нам надо поторопиться.
Он хотел прибавить: «И я должен связаться с Ларисой». Но тут снова подал голос телефонный аппарат на его столе: Лара его опередила.
– Как хорошо, что ты позвонила! – обрадовался Николай. – Я надеюсь, у тебя всё в порядке? Ганна больше не объявлялась?
– Нет, не объявлялась. – Голос Лары звучал напряженно, и говорила она почему-то шепотом.
– Тогда я сейчас пришлю к тебе курьера – отдай ему, пожалуйста, ту кожаную папку. Она мне нужна. А её содержимое ты можешь оставить себе.
– Нет, – проговорила девушка.
– Что – нет? – не понял Скрябин.
– Ты должен приехать в Ленинку сам. И как можно скорее.
– Тебе удалось что-то накопать?
– Удалось, да, но не это сейчас важно. Здесь и вправду кое-кто объявился.
3
Бесплотный дух, который шнырял теперь по Москве, сто лет назад и вправду был Ганной Василевской, дочерью обедневшего польского шляхтича, вынужденного служить управляющим у помещика Гарчинского. И настоящая Ганна умерла в возрасте двадцати лет еще в 1844 году. Замерзла насмерть возле почтового тракта «Санкт-Петербург – Варшава».
Но при этом она как бы не вся замерзла. Какая-то часть её сущности оказалась слишком уж крепко привязана к миру живых. Скорее всего, из-за сына, которого увез её бывший любовник – тот самый помещик, Войцех Гарчинский, вдовец тридцати восьми лет от роду. Взять Ганну в жены он отказался наотрез, но испытывал болезненную привязанность к своему единственному ребенку. Или, может быть, не вся она замерзла из-за отца – который вступил со своим нанимателем в чудовищный сговор. А, может, из-за Артемия – с которым она так и не успела переговорить откровенно, рассказать ему о себе всю правду. Артемия, который мог спасти её в тот день – однако не спас. Но, скорее, она осталась из-за всего этого вместе. Что-то одно не могло бы вызвать в ней такой всепоглощающий, беспредельный, не знающий пощады гнев.
У неё не было больше ни возраста, ни ощущения тока времени, ни мыслей о будущем, не сожалений о прошлом. Гнев – это было всё, что она могла ощущать. Это был для неё единственный способ принять участие в делах живых – делая их мертвыми. И до недавнего времени она считала, что и место её обитания – где она пребывала – является для неё единственно возможным. Но – нет. Не так давно (Ганна помнила, что такое весна, и знала, что всё случилось в конце весны), она очутилась не там. Попала в гигантский, раскаленный, шумный и беспредельно живой город. И тот, кто переместил её сюда, сообщил ей, что это – Москва.
Ганна не одна была здесь такая. Этот город, можно сказать, кишел существами, подобными ей. Правда, мало в ком бурлил гнев столь же демонического свойства, как в ней самой. Но и такие тоже имелись. Особенно сильно это чувствовалось в том месте, название которого будто по наитью пришло к ней: Чертолье. Ганна догадалась, что тут еще недавно стоял огромный православный храм, который мог сдерживать таких, как она. Таких, как они – все те, кто эту местность заселял. Причем храм этот существовал еще совсем недавно – а потом вдруг куда-то запропал. Должно быть, тоже пал под напором гнева – но не бестелесных, несчастных в своей злобе существ, а живых и горячих людей.
Остудить их – вот чего она хотела. Однако у неё не было намерений студить их всех подряд. И не потому, что она испытывала к кому-то жалость. Просто – это было трудно. Обращая кого-то в кусок льда, она всегда при этом расставалась с частью своей силы. А для того, чтобы эту силу в себе поддерживать и восстанавливать, ей всегда требовалось одно: та игрушка, которая когда-то принадлежала её мальчику, Мариусу. Игрушка, копию которой Ганна каким-то образом сумела унесли собой в эфирные сферы. При помощи неё она всегда загодя помечала своих жертв, обращая её в подобие мишени, по которой следует бить.