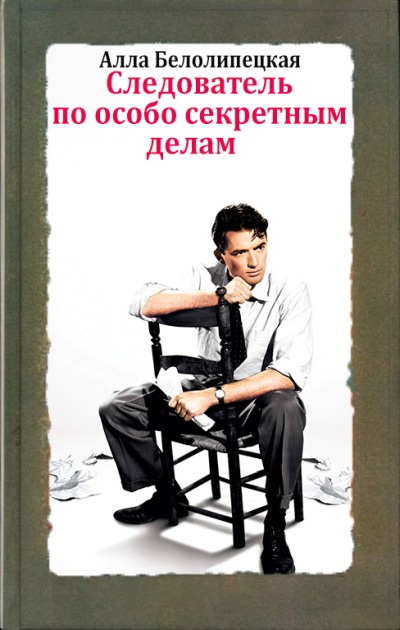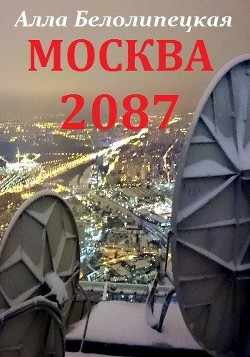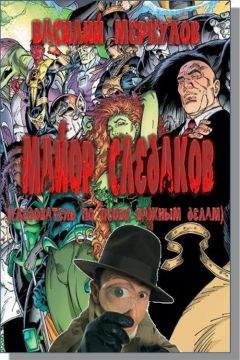ли в её бывшем любовнике пробудилась совестливая сентиментальность. И вот – в один из дней рядом с местом её захоронения, которое Ганна до этого легко могла покидать, появился тот предмет. Она могла различить только смутный его абрис. И не из-за того, что в склепе царил сумрак. Глаза её способны были видеть вообще без света. Тем, кто умер, свет больше не нужен. Однако предмет, оставленный недругами рядом с её последним пристанищем, словно бы нес на себе сплошную, непробиваемую броню. И он образовывал между собой и Ганной некое сгущение воздуха, непреодолимое даже для взгляда не-мертвого существа.
Но всё же Ганна уразумела: в склепе оставили стеклянный сосуд. Она поняла, кто оставил; но появление этих двоих – вместе! – так потрясло её, что она даже не успела на него среагировать. Они принесли с собой ту бутылку темного стекла, прямо на месте раскупорили, а потом поспешно удалились. Да и то – едва не опоздали. Злобная сущность, выпущенная на свободу, метнулась за ними следом – но перед ней уже захлопнули освященные двери усыпальницы.
И, должно быть, Гарчинских предупредили о том, что использовать склеп им больше нельзя. Потому как – в те двери никто не входил много десятков лет. Вплоть до момента, как недолгое время назад туда заявился тот самый человек: сперва – её освободитель, а потом – её пленитель. Причем пленил он её совсем не в романтическом смысле. Он уничтожил ту бутылку – попросту разбил её. И Ганнина сторожиха тут же ринулась через распахнутые двери склепа наружу – наверняка торопясь вернуться к месту своего прежнего, исконного обитания.
А саму Ганну на время оставили на свободе.
Если бы ликование не было чуждо ей, как и все остальные эмоции, кроме гнева, то она, пожалуй, возликовала бы тогда. Но – нет: она всего лишь кинулась наверстывать упущенное. И – сумела-таки отыскать кровного потомка одного из тех, по чьей вине она покинула этот мир. Успела сделать то, что должна была. А потом во второй раз объявился её мнимый освободитель – который и её саму поместил в стеклянный сосуд. Поместил, чтобы переправить сюда, а потом снова предоставить ей свободу.
Но Ганна, хоть и утратила острый и быстрый ум, каким она обладала при жизни, отчетливо поняла всю неполноту этой свободы. Сосуд, в котором она приехала в Москву, уничтожен не был. Его оставил у себя тот человек, объяснивший ей, в чем состоит её новое положение.
– Когда ты всё исполнишь, – пообещал он Ганне, – я эту бутылку разобью. Даю тебе слово. И ты сможешь отправиться домой. А там – делай всё, что пожелаешь.
8
Когда Николай Скрябин на служебной «эмке» вернулся в здание Наркомата, время близилось уже к пяти часам дня. Площадь Дзержинского чуть ли не докрасна раскалилась под солнцем, и шины наркомвудельской легковушки, казалось, должны были плавиться на асфальте. А в салоне машины жара стояла такая, что у Николая по лицу градом катился пот. Однако он этого почти не замечал.
Отвезя Самсона к Театру Вахтангова, он убедился, что беглый наркомвнуделец беспрепятственно вошел внутрь. Какова бы ни была природа новообретенного дара Давыденко, дар этот явно продолжал действовать. После этого Скрябин еще проехал по улице Вахтангова – до музея-квартиры своего дальнего родственника. Однако в том окне, где давеча он видел репродукцию картины викторианского художника, теперь висела только афиша, извещавшая о предстоящем фортепьянном концерте.
Машину Николай оставил в служебном гараже, а затем на лифте поднялся на этаж, где располагался его кабинет – в той части здания, что полностью принадлежала «Ярополку». И, едва выйдя из лифтовой кабины, поразился царившему на этаже волнению. Один из сотрудников проекта так спешил попасть в лифт, что едва не сбил Скрябина с ног. Другой – просвистел мимо него по коридору, так что Николая даже обдало легким ветерком. А потом он увидел Михаила Кедрова – лицо которого выразило явственное облегчение при его появлении.
– Слава Богу! – воскликнул он. – Я уж хотел ехать за тобой в Ленинку!
– Да что тут случилось-то? – Николай отпер свой кабинет, и они вдвоем вошли в пространство блаженного покоя.
– Во-первых, нашли Данилова! Ссадили с поезда «Москва-Новороссийск» и теперь на автомобиле везут обратно в Москву. А, во-вторых, вместе с Даниловым с поезда сняли Веру Абашидзе.
– Жену Отара Абашидзе? Нашего сотрудника?
– Её, её! Бывшую жену – как он сам говорил, но это дела не меняет. Да и к тому же, де-юре они всё еще состоят в браке. За Отаром Абашидзе тоже уже послали. Ну, а что Самсона вся Москва ищет – это ты и сам знаешь. И есть еще одна новость! Мы выяснили, куда Хомяков поехал с Казанского вокзала.
– Да говори уже, не томи!
– Наши сотрудники негласно прошлись по станциям метро и показали фото Хомякова всем, кто работал в ту ночь. И – его опознали сразу две дежурные. Одна – с «Комсомольской», где он в метро спустился. А другая – со станции «Дворец Советов», где он из метро вышел. Его очень хорошо запомнили: он был с собакой, а с ними в метро обычно не пускают. Но он где-то раздобыл документ, что это – собака-поводырь. А в документе стояла его фамилия! Так что никаких сомнений быть не может.
Но Скрябин уже не слушал его. Круг подозреваемых сужаться решительно не желал. В районе улицы Кропоткина – возле станции метрополитена «Дворец Советов» – из участников следственной группы, ездившей в Белоруссию, не проживал никто.
19 июля 1939 года. Вечер среды
1
Валерьян Ильич Назарьев, по рождению – дворянин, сын помещика Рязанской губернии, взял себе фамилию матери. И во всех документах значился теперь Шевцовым. Ведь правда о родстве с ним могла серьезно навредить его сыну, состоявшему на службе в НКВД СССР. А его сын Андрюша и без того нес на себе несмываемое клеймо – из-за Высших богословских курсов, куда его угораздило поступить. Так что из предосторожности Валерьян Ильич даже не проживал с сыном под одной крышей: снимал комнату в одном из переулков близ бывшей Пречистенки. Но чаще использовал служебную квартиру при театре: каморку с крохотной кухонькой.
А сейчас, когда лето перевалило за середину, и все стремились уехать из Москвы куда-нибудь на природу, в прохладу и тишину, он фактически превратился в круглосуточного театрального сторожа. Хоть это и шло