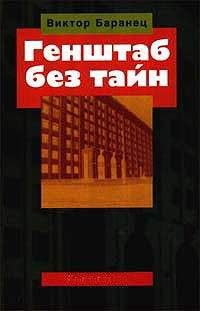Ошалевший от предполагаемой кары за такие невинные слова доктор почувствовал, как у него подгибаются колени. Но — не зря же говорят, что ответственности без вины не бывает. В самом деле, нарушил доктор инструкцию главного тюремщика, а стало быть, в глубине души чувствовал себя виноватым. Вот потому и перепугался не на шутку.
— А теперь — работайте, доктор, — любезнейшим тоном окончил Воробьев, вновь заставив врача передернуться, теперь уже от скрипа открываемой двери.
В этот раз, то ли с перепуга, то ли еще по какой причине, Владлен Ильич долго не мог добраться до вены несчастной мулатки, а когда, испробовав аж две иглы, все-таки сумел проколоть её необычайно прочную кожу, то из вены в шприц потекла непонятная сине-голубая жидкость. Совершенно сбитый с толку доктор с большим трудом смог добыть из равнодушно взирающей куда-то мимо него девушки полкубика синей крови.
Внимательно наблюдающий за действиями врача Воробьев внятно хмыкнул и сказал куда-то в коридор:
— Понятно, так и доложим.
Но настаивать на заборе полных двух кубиков, как это было с предыдущими задержанными, не стал, а жестом предложил врачу двигаться дальше…
… Ровно через двадцать одну минуту с момента его звонка в госпиталь, на пороге кабинета капитана Мишина появился врач, но почему-то не один, а в сопровождении Воробьева. И вид у обоих был несколько потрясенный, что по доктору читалось легко, а вот растерянность старшего лейтенанта госбезопасности мог понять только опытный оперативник.
— А ты-то что пришел, Иваныч? — для разрядки поинтересовался Мишин, пока доктор выставлял на стол нумерованные пробирки с пробами.
— Сам увидишь, поймешь, — коротко, но совсем невежливо ответил Воробьев.
«Вот дела какие, — огорчился капитан. — Одни проблемы с этим борделем, да с мулаткой. И как меня угораздило ввязаться…»
— Это всё, — нервно сказал доктор, доставая из саквояжа вслед за последней пробиркой список задержанных с пометками у кого какая по номеру проба взята, — это всё хранится не более шести часов до анализа, потом надо будет повторить.
Самсонов гулко сглотнул слюну, в этот момент капитан и обратил внимание на пробирочку с бледной сине-голубой жидкостью. Он взял её в руки, встряхнул. Жидкость цвет не поменяла. Мишин вопросительно посмотрел на старого тюремщика.
— При мне набирал, — кивнул тот. — Остальные — тоже, правда, с этой, которая у нас по второй форме висит, сначала разговаривать пытался…
— Зачем? — не понял Мишин.
— Пожалел, я так думаю, — пожал плечами Воробьев.
— Так обращаться с женщиной… — дрожащим, но решительным голосом начал Самсонов.
Мишин покачал головой и показал ему пробирку с синей жидкостью.
— Пусть не женщиной, — запнулся врач, — но с человеком… или не человеком…
— Как она? — уже не обращая внимания на доктора, спросил Мишин у тюремщика.
— Так же, как и в первое время, — пожал тот плечами, — спокойно. И забор крови прошел тихо, без сопротивления и разговоров с её стороны.
— С другими какие-то недоразумения были?
— Номера шестой и девятый отказались добровольно кровь сдать, — ответил Воробьев. — Пришлось фиксировать, но кровь у них нормальная, в смысле, красная. Да и девка одна, номер двенадцать, орала, что боится. В самом деле чуть сознания не лишилась. Но и это — в норме.
— Садитесь, оба, — приказал Мишин, указывая на стулья у маленького столика, но кормить-поить гостей он не собирался, а достал из сейфа пару бланков строгой отчетности и выложил их перед врачом и тюремщиком. — Заполняйте.
— Ой-ёй-ёй… — только и проговорил Воробьев, увидев форму расписки о неразглашении. — А я такую один раз только и подписывал, да и давно это было…
— А что тут писать? — убитым голосом спросил совершенно растерявшийся доктор.
— Все, что требуется, — пояснил Мишин, — я, такой-то такой-то, дальше там текст впечатан уже, читаете, подписываете, ставите дату и время.
Воробьев, не читая, быстро заполнил бланк, расписался, уточнив у капитана текущее время, и отдал свой лист под недоуменным взглядом доктора.
— Я таких бумаг уже столько наподписывал, что при желании на три высших меры накрутить можно, если я даже во сне вспоминать про них буду, — сказал Воробьев. — А тебе это в диковинку, вот и читай внимательно, там лишнего не написано. Всякое лыко в строку…
Доктор читал утомительно долго, постоянно возвращаясь к уже прочитанному, тяжко вздыхая, наконец-то, взял перо, вписал свою фамилию, расписался и жалко улыбнулся, протягивая лист Мишину.
Капитан тоже вздохнул, ну, вот не было у него сейчас никакого желания проводить профилактическую работу с еще не привыкшим к армейским порядкам врачом, человеком, судя по всему, хорошим, но упорно не понимающим, что не все люди такие же хорошие и желают друг другу добра.
— Идите, — стараясь не смотреть на него, выговорил Мишин. — И постарайтесь выполнить те условия, что только что подписали. Если будет интересоваться кто-то к кому и зачем вас вызывали, то сошлетесь на меня, капитан Мишин просил попользовать его от головной боли. Всё, идите, служите…
Не верящий в том, что его путешествие в «застенки» так благополучно завершилось, Самсонов тенью выскользнул из кабинета, а капитан, проверив следом за ним дверь и заперев её на ключ, спросил Воробьева:
— Иваныч, мы ведь с тобой уже старые волки, скажи, что ж это все значит? Какая тут загадка?
— Про загадки это ты сам думай, у тебя работа такая — оперативная, — отказался размышлять Воробьев. — Но только она — не человек. Люди так себя не ведут.
— Вот только и слышу «не человек», «не человек»… — раздраженно высказался Мишин. — А кто ж тогда? ведьма? упырь? или вообще животное какое?
— Тебе разбираться, ну, если доверят, конечно, — снова ушел в сторону Воробьев.
— Понимаю, что мне, и только если доверят, — согласился капитан. — Ладно, спасибо тебе, что сам с доктором этим пришел.
— Так ведь надо было, — развел руками Воробьев.
После ухода главного тюремщика комендатуры, капитан Мишин вновь запер дверь на ключ, предварительно выгнав засидевшуюся в приемной Настю, и разложил на рабочем столе листок шифрограммы, плотно исписанный цифрами, личный шифровальный блокнот и чистый лист, на который ему предстояло перенести расшифрованные слова.
* * *
— Вставайте, товарищ старший сержант! Вставайте…
Сквозь сон пробивался чей-то ноющий голос. Пан не выдержал и открыл глаза. Над соседней койкой, в которой спал Успенский, навис промасленный черный, как сама ночь, комбинезон, и плачущим голосом приговаривал: