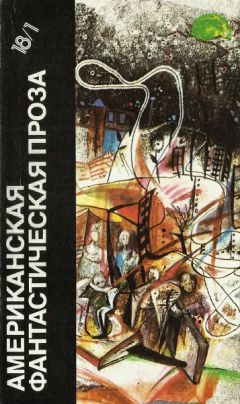Но я не смог этого сделать по двум причинам. Первая — это то, что один мертвый попугай будет значить — один мертвый гусь, то есть я. И кроме того, в глубине души я ужасно тосковал о Папе. Я просто не мог навсегда заглушить его голос, который был запечатлен, который я держал в своих руках, по-прежнему живой, как на старом фонографе Эдисона. Я не мог его убить.
Если бы эти великовозрастные детишки об этом знали, они кучей накинулись бы на меня, как саранча. Но они этого не знали. Думаю, это не читалось на моем лице.
— Все назад! — закричал я.
Это напоминало ту блистательную финальную сцену в «Призраке оперы», когда Лон Чейни[23], убегая от погони по ночному Парижу, оборачивается к преследующей его толпе, поднимает руку, сжатую в кулак, словно в нем бомба, и толпа на одно прекрасное мгновение останавливается, боясь приблизиться. Расхохотавшись, он разжимает кулак, показывая, что рука пуста, а затем срывается в реку, навстречу смерти… Только я совсем не собирался показывать им, что у меня в руке пусто. И крепко сжимал ее на тощей шее Эль-Кордобы.
— Расступитесь, дайте пройти к двери!
Они расступились.
— Ни шага, ни вздоха. Если кто-нибудь хотя бы упадет в обморок, птице конец, и никаких авторских прав, никаких фильмов, никаких фотографий. Шелли, принеси мне клетку и платок.
Шелли Капон осторожно пробрался ко мне и передал клетку вместе с платком.
— Всем отойти! — скомандовал я.
Все отскочили на шаг назад.
— А теперь слушайте, — сказал я. — Когда я уйду и спрячусь в надежном месте, каждый из вас, по одному, будет приглашен и получит шанс еще раз встретиться здесь с другом Папы и заработать на громких заголовках.
Я лгал. Я слышал ложь в своих словах. И надеялся, что никто больше этого не услышит. Я заговорил более поспешно, чтобы скрыть свою ложь:
— Теперь я уйду. Смотрите. Видите? Я держу попугая за горло. Он будет жив, пока мы с вами будем играть в «море волнуется». Итак, пошли. Море волнуется — три. Замри! Я на полпути к двери.
Я прошел между ними, они даже не пошевелились.
— Замри, — говорил я, а сердце мое было готово выскочить из груди. — Я у двери. Спокойно. Никаких резких движений. Клетка в одной руке. Птица в другой…
— «Львы бежали по желтому песку пляжа», — сказал попугай, его горло задергалось у меня в пальцах.
— О господи, — запричитал Шелли, сидя на коленях возле стола. Слезы побежали по его щекам. Может быть, тут была не только нажива. Может, для него попугай тоже был частичкой Папы. В призывно-молящем жесте он протянул руки ко мне, к попугаю, к клетке. — Господи, господи, — плакал он.
— «У причала лежал лишь остов огромной рыбы, и кости скелета ярко белели в лучах утреннего солнца», — проговорила птица.
— Ох, — тихо вздохнул кто-то.
Я не стал медлить, чтобы посмотреть, плачет ли кто-нибудь еще. Я вышел вон. Закрыл дверь. Бросился к лифту. Словно по волшебству, он оказался на моем этаже, внутри ждал полусонный лифтер. Никто даже не попытался преследовать меня. Думаю, они знали, что это бесполезно.
Пока мы ехали вниз, я посадил попугая в клетку и накрыл ее платком с надписью МАМА. Лифт спускался вниз медленно, целую вечность. Я думал об этой вечности впереди и о том, где я могу спрятать попугая, укрыть его в тепле от любой непогоды, кормить его надлежащим образом, чтобы один раз в день приходить к нему и разговаривать через платок, и никто больше его не увидит, ни газеты, ни журналы, ни кинокамеры, ни Шелли Капон, ни даже Антонио из «Куба либре». Так пройдут дни или недели, и на меня нападет внезапный страх: а что, если попугай потерял дар речи? И тогда я проснусь посреди ночи, шаркая подойду к клетке, встану возле нее и скажу:
— Италия, тысяча девятьсот восемнадцатый?..
И тогда из-под слова МАМА донесется знакомый голос:
— «В ту зиму снег тонкой белой пылью спускался с предгорий…»
— Африка, тысяча девятьсот тридцать второй.
— «Мы достали ружья и их смазали, ружья были светло-синие и блестящие и покоились у нас в руках, и мы ждали в высокой траве и улыбались…»
— Куба. Гольфстрим.
— «Эта рыба всплыла и подпрыгнула до самого солнца. Все, что я когда-либо думал о рыбе, было в этой рыбе. Все, что я когда-либо думал о прыжке, было в этом прыжке. Они вместили в себя всю мою жизнь. Это был день солнца и воды и жизни. Мне хотелось удержать все это в руках. Мне хотелось, чтобы это не кончилось никогда. И однако, когда рыба упала и вода, белая, а потом зеленая, над ней сомкнулась, все кончилось, кончилось…»
Тем временем мы спустились в холл, двери лифта открылись, я вышел, держа в руках клетку с надписью МАМА, и быстро направился через холл гостиницы к стоянке такси.
Оставалось самое сложное и самое опасное. Я знал, что к тому времени, когда я приеду в аэропорт, гвардия и милиция Кастро уже будут подняты по тревоге. Я не сомневался: Шелли Капон наверняка сообщил им, что национальное достояние уплывает за границу. Он даже может уступить Кастро часть доходов от «Книги месяца» и права на экранизацию. Мне нужно придумать план, чтобы просочиться через таможню.
Впрочем, я ведь писатель и быстро нашел выход из положения. Я попросил такси остановиться и успел купить ваксы для обуви. После чего принялся наносить грим на Эль-Кордобу. Я выкрасил его в черный цвет с ног до головы.
— Слушай, — шепотом сказал я, наклонившись К клетке, пока мы ехали по Гаване. — Nevermore[24].
Я повторил это слово несколько раз, чтобы попугай запомнил. Вероятно, оно было новым для его слуха, ведь Папа, насколько я предполагал, никогда бы не стал цитировать соперника средней весовой категории, которого он к тому же отправил в нокаут много лет назад. Пока слово записывалось, под платком царило молчание.
Наконец я услышал ответное:
— Nevermore, — произнесенное таким знакомым, родным тенорком Папы, — nevermore, — звучало оно.
…до парижского Левого берега… — Левый берег Сены — артистическая, богемная часть Парижа.
Кеннет Тайнен (1925–1980) — влиятельнейший английский театральный критик, принадлежал к поколению «рассерженных молодых людей» (и ввел в оборот сам этот термин), активно пропагандировал драматургию абсурда и «эпический театр» Б. Брехта, явился связующим звеном между классическим театром и новым.
Теннесси Уильямс (Томас Ланье, 1911–1983) — знаменитый американский драматург, автор пьес «Стеклянный зверинец» (1945), «Трамвай „Желание“» (1947), «Татуированная роза» (1951), «Кошка на раскаленной крыше» (1955), «Сладкоголосая птица юности» (1956), «Ночь игуаны» (1959) и др., романа «Римская весна миссис Стоун» (1950), нескольких сборников рассказов и стихов.