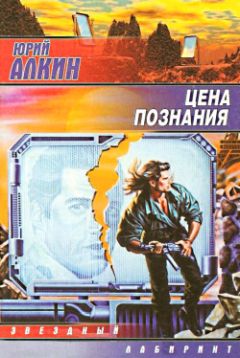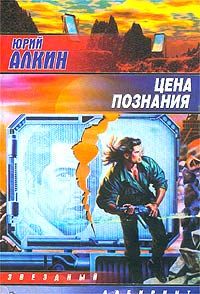Ну-ка еще раз, по порядку. Почему я думаю, что Восьмая строила мне западню? Потому что она так странно посмотрела на меня, говоря об этой «теореме». Но ведь если это известная цитата, то не только я, но и любой из присутствующих мог ее неосторожно подхватить. Значит… Значит, имеем несколько вариантов. Либо ловушка не была предназначена персонально для меня, а являлась некой волчьей ямой — кто попадется, тому и рады. Спрашивается, зачем в таком случае нужно было смотреть именно на меня? Либо я наконец-то развил в себе серьезную манию преследования, и мне вообще все это померещилось. И взгляд, и подтекст — все. Либо она считала, что я единственный, кто знает эту фразу. Но тогда эти слова не могут быть цитатой.
Пока я все больше и больше запутывался в своих рассуждениях, общество расходилось. Некоторые направились в Секцию Встреч, кто-то сообщил, что пойдет вздремнуть, остальные прощались и уходили, не рассказывая о своих планах. Удалились, продолжая вновь разгоревшийся спор, Шинав с Третьим. Беседуя с женой изобретателя шашек, ушла Восьмая. Махнув мне на прощание, их догнал Четвертый. Я проводил его взглядом и подумал: «А ведь точно, как в старые добрые времена. Восьмая, Четвертый, Пятый. Десятого, правда, тут нет, но он должен быть где-то неподалеку». Здесь все неподалеку. Если бы я не знал, что Мари и Поль не прошли экзамен, то мог бы вообразить, что это они идут по Секции Трапез. Но они экзамен не сдали.
И тут во мне шевельнулось сомнение. «Нет, — сказал я себе, — это невозможно. Абсолютно невозможно». Разумеется, они провалились. Мне это хорошо известно. И все же, и все же… Откуда изначально появилась у меня эта непоколебимая уверенность в их провале? Так сказала Николь. Милая, хорошая Николь. Если бы мне это сообщил Тесье, я давно бы поставил под сомнение правдивость такого утверждения. Ну если бы не давно, то по крайней мере сейчас, после прочтения дневника. Теперь-то я знаю, как хорошо тут умеют дезинформировать. Однако так как эта информация исходила от Николь, да еще и при достаточно явном неодобрении Тесье, у меня не было причин сомневаться в ее достоверности. Николь всегда относилась ко мне хорошо. Николь не стала бы врать. Николь вообще пошла на прямое нарушение своих обязанностей, спасая меня во время разговора с Эмилем. И все же — что, если в тот день она меня обманула? Даже не она, а они. Хорошо продумали, подготовились и очень убедительно разыграли сценку под названием «Ах, какая жалость». Это потом уже она, узнав меня поближе, стала мне помогать. А тогда ей просто приходилось действовать в соответствии с указаниями Тесье. И ничего плохого она в этом, наверное, и не видела. На благо эксперимента делаются вещи и посерьезнее. Да им даже не надо было изобретать этот трюк. Старый как мир подход — «плохой следователь, хороший следователь». Но ведь я сам задал вопрос о Мари и Поле. Выходит, они предвидели его и заблаговременно подготовились? Хотя, зная меня, предвидеть это было несложно.
Я задумчиво ковырнул вилкой еду и, поняв, что пытаюсь сделать это уже в третий раз, вышел из оцепенения. Вокруг никого не было. Передо мной стояла пустая тарелка. Да, задумался маститый писатель, замечтался. Совсем потерял связь с реальностью. Сердясь на свою несобранность, я, пожалуй, более эмоционально, чем следовало, выкинул посуду и пошел к себе. Радужные мысли, владевшие мной пару часов назад, как-то поблекли. Их заслонило это новое подозрение, которое не давало думать ни о чем и ни о ком, кроме Мари.
Два дня протекли как в тумане. Вначале я пробовал писать, но после нескольких часов бесплодных попыток понял, что в таком состоянии ни о какой литературной деятельности не может быть и речи. Пытался размышлять об эксперименте и его вероятном успехе, но бросил и это. Восьмая приковывала к себе все мои мысли. Вновь и вновь я возвращался к одному и тому же вопросу: а что, если это действительно она? Все ее взгляды, слова, действия — все то, что я считал проявлениями коварства и плодами черных замыслов, обретало теперь совсем другой смысл. Она не искала мои промахи — она хотела понять, кто скрывается под маской Пятого. Она не расставляла мне ловушки — она пыталась намекнуть о себе. Она не была удачливой конкуренткой — она была самой Мари! Я вызывал в памяти каждый разговор, каждую мелочь и не находил ничего, что противоречило бы этому простому утверждению.
Я забыл обо всем. Драгоценный, бесценнейший дневник Пятого был небрежно брошен в ящик и подвергнут забвению. Что значил он по сравнению с одной мыслью о том, что Мари живет чуть ли не в соседней комнате. Неужели каждый день я разговаривал с ней, считая, что говорю со зловредной незнакомкой? И пока она раз за разом пыталась сказать мне о своем присутствии, я с упрямством истинного параноика видел в ее попытках одну лишь угрозу? Такие мысли доводили меня до того, что в какой-то момент я был готов наплевать на все и отправиться к Восьмой с четким и недвусмысленным вопросом. Однако здравое сомнение брало верх. А что, если я ошибаюсь? Ведь даже сейчас ее поведение можно продолжать истолковывать как коварное. Все факты отлично поддаются любому из двух противоположных толкований. Тогда, придя к ней с таким вопросом, я собственными руками разорву свой контракт. Хорошо героям любовных романов: им всегда сердце подсказывает правильное решение в сложных ситуациях. Думать этим счастливчикам приходится относительно редко, и, как только заходит речь о серьезном вопросе, им достаточно прислушаться к голосу этого органа — и дело в шляпе. Мое же сердце лишь равнодушно билось, оставляя привилегию принятия решений весьма одуревшему от своих выводов мозгу.
При встречах с Восьмой мне приходилось собирать всю выдержку, чтобы ничем не выдать своего волнения. Иногда мне казалось, что я узнаю Мари, ее голос, ее жесты. Но в следующий момент наваждение проходило, и передо мной снова оказывалась та хитрая и вероломная женщина, от которой не приходилось ожидать ничего, кроме подвоха. Я чувствовал, что долго так продолжаться не может. Мне было необходимо узнать ответ на свой вопрос.
— Мольберт? Картина?
— Нет, он имеет в виду большую книгу!
— Книги не бывают таких размеров.
— Тогда что это?
— Не знаю, но только это не книга.
— Дверь? Я угадал — это дверь!
— Почему ты так думаешь?
— Он кивнул.
— Он не кивал.
— Нет, кивнул. Первый, правда, ты кивал?
— Видишь, он качает головой.
— Но я точно видел, что он кивал.
— Какая разница, кивал или нет, если сейчас он это отрицает?
— Первый, зачем ты кивал?
— Это полка?
— Зачем ты кивал?