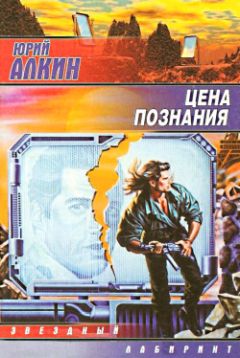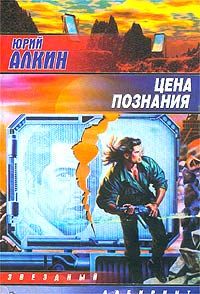— И каков твой вывод?
— Луазо врет. Шеналь никогда не вышел отсюда — или вышел в таком состоянии, в котором книги писать невозможно.
— Не принимается. Твой предшественник благополучно вышел отсюда, получил больше денег, чем он может потратить за всю жизнь, встретил свою старую любовь, обнаружил, что она по-прежнему питает к нему теплые чувства, и понял, что есть вещи гораздо более важные и интересные, чем написание бесполезных книг.
— Хорошо, — согласился я. — Твоя версия не хуже.
Мари не удовлетворил такой ответ.
— Моя версия лучше, потому что она гораздо правдоподобнее. Что еще?
— Дневник оборван на полуслове. Несколько страниц вырвано.
— Вывод?
— Что-то произошло в тот вечер. Шеналь успел только вырвать особо опасные страницы и кинуть дневник за стол. Может, за ним пришли. А может, пустили газ.
Мари сделала страшные глаза:
— И, теряя сознание, он пытался скрыть свои записи?
— Да.
— А что он сделал с вырванными страницами? Теряя сознание, съел?
Я промолчал.
— Драматично, но маловероятно, — подытожила моя экзекуторша. — Дневник он, конечно, бросил за стол. Но вовсе не потому, что почувствовал опасность. Просто он понимал, что вынести тетрадь ему не удастся, и не нашел ничего лучшего, чем спрятать ее в комнате. Ну, а страницы он вырвал задолго до этого. Чем-то они ему не понравились. Или наоборот — там были записаны какие-то особо удачные формулы или стихи, и он забрал их с собой.
— А почему он оборвал запись?
— Потому что, как некто справедливо заметил, за ним пришли. Ну, не совсем пришли, а просто сказали, что пора выходить. Вот он и вышел. Похоже на правду?
— Похоже, — согласился я.
— Два — ноль, — сказала Мари. — Что дальше?
— Дальше кровь, энцефалограммы и прочие анализы.
— И что тебя в них тревожит?
— То, что их регулярно делают всем актерам. Если эксперимент проводится только над одним человеком, зачем нужен этот спектакль?
— Затем, чтобы скрывать этого человека от всех остальных. Нельзя же проверять только одного.
— Это понятно. Разумеется, ходить на эти процедуры надо всем. Но зачем же делать настоящий анализ мне или тебе?
— А-а, крови жалко? — сощурилась Мари. — Значит, бедного мальчика можно колоть, а тебя нельзя?
— Да при чем тут это, — сказал я, стараясь не раздражаться.
— Ни при чем, — согласилась она. — И твои подозрения тут тоже ни при чем. Понятно, что анализы делают всем без исключения для того, чтобы даже сами врачи не знали, кто такой подопытный.
— Ты не находишь, что это звучит несколько натянуто? — поинтересовался я.
— Не нахожу, — отрезала Мари.
Она явно наслаждалась происходящим. Игравшая на ее губах улыбка говорила о том, что я не смог поселить в ней и тени подозрения. Я вздохнул.
— Ну, если даже это не кажется тебе подозрительным, то остальные доводы ты вообще проигнорируешь.
— Возможно, — согласилась она. — Но ты попробуй. Или благородный рыцарь просит пощады?
— Еще нет, — ответил я. — Что ты скажешь о том, что кричал свихнувшийся Шинав?
— Ничего, кроме того, что я ему искренне сочувствую.
— Неужели все эти крики «он обычный, а я нет», «и ты не будешь обычным» не вызывают у тебя никаких подозрений?
— Если бы крики психически ненормальных людей вызывали у меня подозрения, то в Париже я бы тряслась от страха, прочитав любую бульварную газетку. Они все пророчили или конец света послезавтра в три часа, или повальное изнасилование инопланетянами.
— Но сейчас-то мы не в Париже.
— А ты уверен? — лукаво спросила она.
— Хорошо, — сказал я. — Оставим в покое Шинава. Хотя к нему мы еще вернемся. Помнишь, давным-давно мы все встречались со своими предшественниками? Еще до первого экзамена.
— Помню, — ответила Мари.
Ее лицо приняло несколько напряженное выражение. «Неужели в их беседе была тоже какая-то странность?» — мельком подумал я.
— На следующий день Поль был очень задумчивый и даже не приставал к Эмилю. Помнишь?
— Припоминаю.
— Так вот, он был таким задумчивым, потому что после короткой перепалки посетитель сказал ему буквально следующее: «Я — обычный человек, который притворяется бессмертным. А тебе притворяться не придется».
— И это все? — спросила Мари с каким-то облегчением.
— Все, — подтвердил я.
— Ну и что в этом страшного? — удивилась она. — Он просто намекал на то, что Полю надо лучше учиться.
Сама не зная того, она почти слово в слово повторила то, что я сказал Полю в тот день. Но с той далекой поры мои взгляды кардинально изменились.
— А о чем говорили вы? — поинтересовался я.
Мари пожала плечами.
— Уже точно не помню. Обо всем понемногу. А что?
— Мне показалось, что мой вопрос вызвал у тебя неприятные воспоминания.
— Ничего неприятного там не было, — уверенно сказала Мари.
— А все-таки? Или ты боишься говорить об этом, потому что ваш разговор подтверждает мою теорию?
— Он ничего не подтверждает. Просто я просила ее после выхода наружу позвонить моим родителям и сказать, что у меня все нормально.
— А она отказалась, — утвердительно сказал я.
— Наоборот, согласилась, — ответила Мари.
— Тогда что же тебе не понравилось?
— Когда она ушла, я обнаружила в ее кресле бумажку, на которой записывала номер телефона.
— И ты думаешь, что она забыла ее намеренно? Для того чтобы намекнуть тебе, что она отсюда не выйдет?
— Это ты так думаешь, — ответила Мари. — И именно поэтому я не хотела тебе об этом рассказывать. Конечно, она забыла ее случайно. А если и специально, то правильно сделала. По контракту она не имеет права говорить об этом ни с кем.
— Да, — сказал я фальшивым тоном, — конечно, она забыла ее случайно. И вообще все, о чем я тебе говорю уже целый час, — это полнейшая чушь.
— Я не говорила этого, — с улыбкой возразила Мари. — Твоя теория интересна, но, по-моему, беспочвенна.
— Беспочвенна?
— Конечно. Хорошо, предположим на минуту, что ты прав. Зрителя не существует. Эксперимент ведется над нами. Неизвестно, что они исследуют, но это и не важно. А важно другое — в чем опасность? Как они могут влиять на нас? Они ведь ничего не делают с нами. Ни психически, ни физически. Они никак на нас не влияют. А если так — то пусть исследуют. Нам-то какая разница? Анализы действительно выглядят подозрительно, но ведь они только берут кровь. Они ничего не вводят внутрь.
— А ты уверена, что тебе ничего не вводят внутрь? — тихо спросил я.