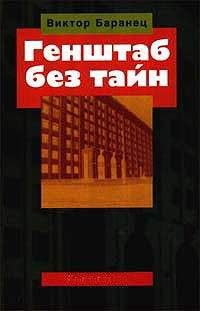Хромой, усилием воли подавив в себе паническое желание броситься, не оглядываясь, вслед за Парфением, спокойно констатировал:
— Ну и ссыкло же наш молодой, сказано же — если увидишь…
Но тут, неожиданно, со стороны, откуда спутники появились на станции, подошла тугая, свежая струя воздуха, настоящий тоннельный ветер, неизвестно, чем вызванный, и где-то далеко зародился и начал приближаться странный звук — шипящий, гремящий, наполненный запахом горячего железа и машинного масла.
Не раз и не два побывавший на железнодорожной станции города в те моменты, когда туда приходил очередной эшелон, Хромой сразу узнал в приближающемся невнятном грохоте перестук колес и лязг межвагонных сцепок тормозящего поезда…
И тут же, перекрывая все звуки, стелящиеся по платформе, по ушам ударило рваное тяжелое дыхание и стук каблуков о старый, выщербленный и затертый миллионами ног асфальт…
… Отдышавшись от перехватившего горло стремительного панического бега только на втором пролете узкой бетонной лестницы, ведущей к выходу со станции, мулатка подумала, что может быть это был вовсе не поезд, а та самая память Моста о прошлом, которая отражалась в стеклах. Но, как бы то ни было, рядом с ней, прижавшись спинами к серому сухому бетону стены, хрипло дышали Хромой, Мика и Таньча, а прибежавший сюда пораньше Парфений угрюмо смотрел на спутников, и запашок от парнишки распространялся самый не аппетитный. Похоже, что, выйдя на поверхность, ему срочно придется менять брюки.
А наверху, всего-то в двух лестничных пролетах, все было привычно и обыденно. Стоял стеной, не шелохнувшись, черный лес у гранитного парапета бурой, неподвижной Реки, нависал серый полог неба. И ржавые прутья арматуры, изъеденные временем, торчали из полуобвалившейся стены, в которой темнел провал входа на Мост и на который оглядываться без страха было уже невозможно.
— Малой, а малой, иди-ка, срань с себя сними, — скомандовал Хромой, сперва оглядев, будто пересчитывая, спутников, — подождем тебя пяток минут.
— Я прям здесь, — начал расстегиваться Парфений, — чего ходить-то…
— Отойди, я сказал, — повторил старик. — Думаешь, приятно твое дерьмо нюхать?
— Сами-то тоже чуть… — не сдержался, как обычно Парфений.
— Иди-иди, — подтолкнул его Хромой в сторону деревьев. — И прикопай там за собой. Следов оставлять здесь не надо.
— Зря мы перепугались, — рассудительно сказал Мика, глядя в след удаляющемуся Парфению. — Знающие люди говорили, так Мост дышит.
— Вот теперь и мы знать будем, — согласился Хромой. — А не перепугаться-то — как?
Отошедший в сторонку Парфений побоялся скрываться с глаз своих спутников и принялся менять штаны, посверкивая голым, грязным задом, у них на виду. Чуток отвернувшись от такого неаппетитного зрелища, мулатка, желая как можно скорее отвлечься от пережитого там, на платформе животного ужаса, спросила у Хромого:
— А мы теперь через лес пойдем?
— Нет, через лес я дороги не знаю, хотя так и короче было бы, — с видимым сожалением ответил старик. — Подымимся на трассу, по ней и двинемся, только передохнем сначала, да пожуем чего…
После его слов Шака и сама с удивлением почувствовала, как у нее урчит в желудке, будто уже дня два, а то и три она ничего не ела. Видать, здорово этот Мост вытягивает соки и выдавливает дерьмо из людей. Как бы подтверждая это, замычала и захныкала тихонько Таньча, показывая на пальцах, что с удовольствием пожурчала бы прямо сейчас. Хромой, поняв ее знаки, сокрушенно махнул рукой, мол, давай, только далеко не отходи, и обернулся к мулатке:
— А ты как?
Желудок и мочевой пузырь у девушки держались достойно, и ждать всей команде пришлось только Таньчу, в двух шагах от них скидывающую мешок с плеч и рассупонивающую телогрейку и комбинезон под ней, и прикапывающего грязные брюки под деревом Парфения.
Наконец, молодой в запасных брюках вернулся, а Таньча, оставив на потрескавшемся бетоне пузырящуюся лужицу, закинула тяжелый мешок на плечи. Хромой, прищурившись, оглядел обоих и скомандовал:
— Ну, опять, Парфений вперед, а мы следом. Видишь, тропочка идет вверх? Вот по ней и подымайся, выйдем как раз на хорошую трассу…
— Как первый идти, так Парфений, — забурчал себе под нос парнишка, начиная карабкаться по крутой, плотно утоптанной тропинке, — а как девок драть или хлебушком поделиться, так никто и не вспоминает, что он такой есть на свете…
Мулатка посмотрела ему вслед…»
… и Пан увидел прямо перед собой худую, затянутую в старенький, но добротный ватник, спину, чуть шевелящиеся в напряженном движении вверх по крутому склону лопатки, едва заметные из-за лямок вещмешка, свисающего до поясницы, длинные, едва до земли не достающие руки… и дернулся, как удара током, раскрыл глаза…
После пробуждения голова потяжелела, стала тупой и огромной, как перезревшая тыква. И что-то гудело внутри, будто маленький, но звучный колокол… «бум-бум-бум»…
* * *
— Пошли, Пан, живее, — толкнул его в плечо Успенский.
Пан впрыгнул в сапоги, поправил ремень, привычно хлопнув по кобуре ладонью, бросил взгляд на окно. Уже подступали сумерки.
«Ох, я и поспал… — мелькнуло в голове, — когда так последний раз днем удавалось?..»
Ну, а теперь, будто нагоняя упущенное во сне время, он побежал следом за Успенским и капитаном Мишиным по широким коридорам бывшего губернаторского дворца, через маленький, асфальтированный пятачок перед входом, и дальше — в глубину парка, где среди старинных хозяйственных построек располагался госпиталь.
Раз пять по пути их останавливали патрульные, пытаясь проверить документы, выяснить, куда и зачем они бегут, что могло опять случиться после только что одержанной, почти бескровной с нашей стороны, победы в маленькой войне между комендатурой и местным населением.
Пользуясь тем, что среди встречных не было офицеров в звании старше простого лейтенанта, сопровождающий «нижних чинов» капитан Мишин с патрульными разговаривал всё больше на «втором командном», почему-то в просторечии считающийся матерным. Это помогло поскорее преодолеть невеликое, прямо скажем, расстояние до госпиталя.
А там, возле второго, «черного» входа специального строения для обслуги бывшего губернатора их уже ждал доктор Соболев, одетый по-походному, в видавшее виды драповое пальто, со своим старинным саквояжем в руках. И — некто, уцелевший в страшной бойне, сейчас бессильно лежащий на полевых носилках, пристегнутый, что б не свалиться, ремнями, укутанный госпитальными простынями и чей-то камуфляжной плащ-палаткой так, что не было видно лица. Его вынесли к черному входу и оставили здесь караульные, охранявшие палату. Рядом с носилками стоял объемистый, но, на первый взгляд, нетяжелый обычный вещевой мешок.