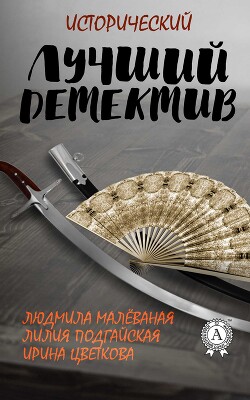страшнее. Воевал, как все, ранен был три раза, дослужился до полковника, офицерского Георгия заработал. Ещё вот и левую руку зацепило, так и скрючилась кисть, еле управляюсь. Письма приходили тогда нерегулярно, но получил весточку, что родила мне Татьяна дочь, назвала Еленой. Я на фронте, понятное дело, уехать не могу. Думал, разобьём немца, тогда и встретимся. А тут, сам знаешь, какая беда началась… Где меня только не носило: и у Алексеева успел повоевать, и у Деникина. Да вот ты знаешь, одно дело против германцев биться, другое — против своих же русских. Ну конечно, понимаешь, что это комиссары, что они смуту затеяли, царя свергли… А всё равно жутко, знаешь, когда на нас пехота в атаку прёт с криком «Ура!». Иное дело, если петлюровцы какие-нибудь атакуют, или кто ещё там. А вот против Красной-то армии совсем тяжко воевать было. Там ведь те же солдаты, которых ты недавно, может, сам в атаку поднимал, против тевтонца. И вдруг они на тебя в лоб идут, а ты им навстречу, и тоже «Ура!» орёшь.
А я всё домой, в Одессу, рвался. Устал непонятно с кем воевать, да и за Таню с дочкой переживал, как они там? В Одессе, по слухам, всё время власть менялась: то комиссары, то Антанта, то Румчерод какой-то.
Да и по всей стране не было власти крепкой, что тебе рассказывать, сам всё знаешь. Наш полк тогда разбили, велено было всем офицерам искать своих самостоятельно, сказали на юг пробиваться. Так я и попал к красным в первый раз. Нашли мы городишко какой-то скверный, на юге, от Одессы уже не так далеко. То ли Елизаветовка, то ли Екатериновка. Добровольцы оттуда выбили какого-то атамана, а сами, вместо того, чтоб остаться, тоже ушли. Я-то надеялся, что они надолго, утром собирался идти регистрироваться, думал — к своим прибился!
А поутру оказалось, что там уже комиссарская власть — какие-то красные части вошли в город ещё ночью, сопротивления не встретили, ну и захватили его. Тут хозяин гостиницы подсуетился, и сдал своих постояльцев новым властям: «Вот, дескать, здесь беляки, ахвицеры обретаются!».
Ну, а те долго рассуждать не стали, там, в номерах нас человек десять было, всех скопом и арестовали. Привезли в какое-то здание, закрыли в подвале. Потом по одному вызывали на допрос. Не били, не издевались, чего многие ждали. Просто спрашивали имя, фамилию, род занятий, что делал в этой самой Елизаветовке-Екатериновке, смотрели документы, у кого были.
Это к счастью, оказалась просто военная комендатура, или штаб, а не ЧК. Сказали, приедет комендант, разберётся — и обратно в подвал. До ночи ещё три раза к нам заталкивали новых людей: кого, как и нас в гостиницах взяли, кого на вокзале, кого на улицах. А ночью началась суета, вызывали по одному, и группами, уводили на допросы — комендант прибыл.
На первом допросе я назвался, как есть, своей фамилией, сказал, что бывший офицер, но сейчас не на службе, давно отпущен из армии по ранению. Ну, меня под утро уже вызвали, привели в какой-то кабинет, там темно, душно, накурено, стол стоит под сукном, за ним какой-то военный во френче без погон. Возле стола — простой табурет. Военный мне на него показал, садись, мол, а конвоиру махнул рукой — свободен!
Присел, а сам всё пытаюсь военного этого рассмотреть, уж больно фигура его мне знакомой показалась. Тут он голову поднимает — я чуть с табурета не упал! Только представь себе — бывший ординарец мой, Слепченко! Смотрит на меня внимательно, строго, без малейшей почтительности, как раньше. И говорит с расстановкой так, значительно, а сам глазами на дверь показывает, не болтай, мол, лишнего.
— Ты, товарищ Горчаков, не серчай на нас, что тебя вместе с контрой в подвале держали! Сам знаешь, время сейчас такое, не всегда сразу разобраться можно. Я тебе пропуск выписал, иди в гостиницу, отдыхай. А на днях биржа? откроется, придёшь, зарегистрируешься, будешь работать, паёк получишь. Вот тебе доку?мент, чтоб, значит, с контрой не путали, но и ты боле не бегай, а служи Советской власти, — и смотрит на меня ещё более внимательно и значительно.
Я поднимаюсь с табурета, беру у него бумажки, а сам, словно во сне. Тут он меня останавливает, молча суёт в руки какой-то свёрток, и к двери. Вызвал конвоира, на меня показал:
— Вот, Аникеев, выведи товарища, он наш, его по ошибке арестовали. Возьмёшь пропуск у него и отпустишь.
А сам обратно к себе за стол, даже не обернулся. Аникеев этот меня до выхода довёл, пропуск забрал, передал его часовому у дверей. Мне руку пожал: «До свидания, товарищ!». Я на улицу вышел, словно в тумане, а сам иду и думаю только: «Ох, не зря я тогда тебя, Иван, раненого на себе тащил, не зря! Вот ты и поквитался со мной по полной, спасибо тебе!»
В гостиницу пришёл, хозяин зенки свои вылупил, думал, что расстреляли меня давно. Я ему мандат свой, от Слепченко полученный, в рожу ткнул, хотел ещё и врезать от всей души, да сдержался: мало ли что… Прошёл к себе, рассмотрел, что в мандате том прописано. А прописано там, что предъявитель сего, тов. Горчаков Н. А. является уполномоченным представителем штаба какого-то там красного полка, ни больше, ни меньше!
В свёртке, что Иван мне сунул, оказались ценности неимоверные в то голодное время: кирпич хлеба, плитка чаю, две селёдки, да кусок сахарной головы, фунта на полтора. И вот сижу я на своей кровати, смотрю на всё это великолепие и думаю про себя: «Ну, поздравляю тебя, товарищ Горчаков! Ты нынче у большевиков свой, хоть в красные комиссары записывайся. Спасибо, конечно, товарищу Слепченко, только что теперь делать? Зачем я воевал с этими самыми большевиками, чтоб у них теперь служить?
Так и просидел на своей кровати до позднего утра, всё не мог решить, что дальше делать. Спустился вниз, разжился кипятком. Заварил себе чаю с сахаром, хлеба поел с селёдкой — давно уже так не пировал. А потом и решение пришло: буду дальше к Одессе пробираться. Мандат от Слепченко спрячу подальше, если комиссары опять схватят — покажу им. Если добровольцы — выправка офицерская выручит. Ну, а если махновцы какие или петлюровцы, то смотря по ситуации.
Так вот и добрался до родных пенатов. В дороге всякое бывало, но пробился без особых потерь. Одёжку себе добыл цивильную, иду по городу, хромаю изо всех сил, руку покалеченную перед
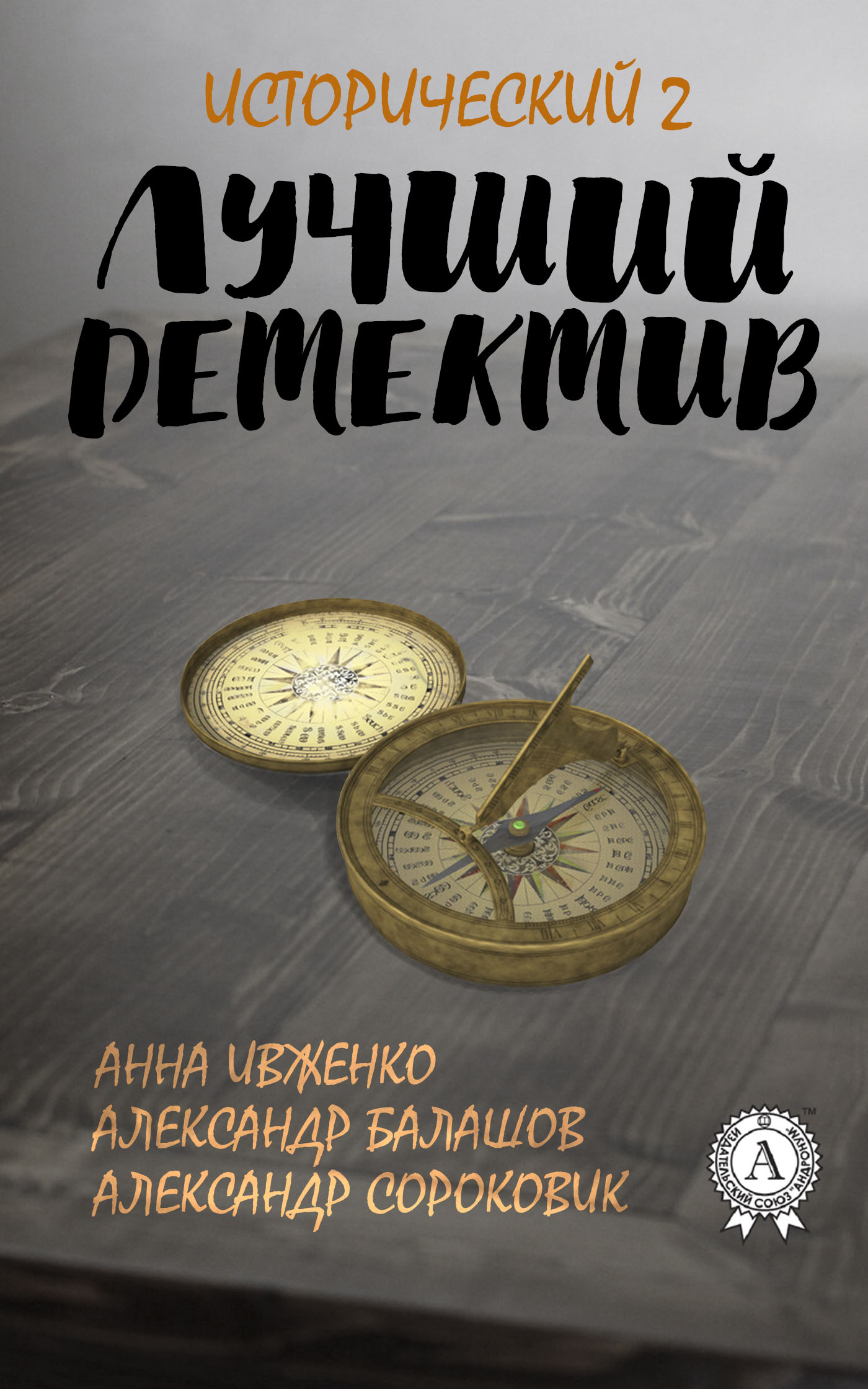
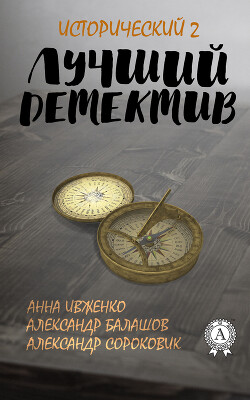
![Лучший исторический детектив [сборник] - Людмила Малёваная](https://cdn.my-library.info/books/386626/386626.jpg)