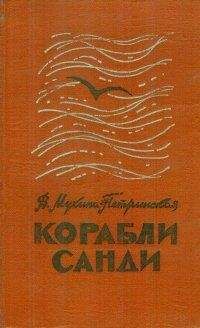Ханне чувствовала себя преданной. А Метте была зла, зла на всех и на всё, зла на отца, поставившего власть и силу выше собственной семьи, и на мать, неспособную дать ему отпор, и на всех колдунов мира, совершенно безразличных к маленьким изломанным судьбам.
Метте приехала в Холл, чтобы поговорить с Серхо, но не смогла произнести ни звука: данное Мадсом обязательство запечатало в ней слова. Но нельзя ведь это, действительно, оставлять так!..
Они должны заплатить за это — и они заплатят.
Если Ханне считали тихоней, то Метте — лёгкой на подъём хохотушкой, от которой не стоит ждать ни серьёзности, ни больших решений. И в убийстве чернокнижников видели внутренние разборки или сложные интриги, но никак не месть испуганной девочки.
А Метте, хохотушка или нет, была настоящая Морденкумп. И она решила со всей ясностью: она убьёт тех, кого узнала в тех залах Ханне, и весь план чернокнижников — так или иначе — рухнет; либо от того, что погибнет кто-то незаменимый, либо от того, что выжившие перегрызутся за власть, либо от того, что полиция всё-таки посмотрит на убитых достаточно внимательно.
Метте взяла из хранилища чистое метеоритное железо, и оно, покорное её воле, растеклось вдоль тела непроницаемыми латами. Метте была сильна, неузнаваема и пахла одним только космосом, который лисы не умели понять. Метте сливалась с тенями, подолгу стояла в темноте, собираясь с духом, а все осевшие на латах примеси вминала в ядро металлического шара, чтобы аккуратно закопать его в саду.
— Я знала, — тяжело резюмировала Става, — я с самого начала говорила, что вы все — долбанутые!
Проще всего было с Тибором Зене. Старик успел потянуться за зеркалами, но Метте растоптала их все, а потом наступила самому Тибору на грудь, переломав рёбра. Матеуша она встретила в Холле совершенно случайно и не успела посмотреть, как он станет умирать: её спугнули голоса, и весь вечер Метте нервничала и грызла губу, надеясь, что её всё-таки не смогут узнать.
Но с Асджером Сковандом было едва ли не труднее. Тогда Метте вела голая ярость, а она — плохой советчик: Метте потянуло на прочувствованные речи, и Асджер бежал от странного воина в металле, желавшего ему смерти.
Была глубокая ночь, город спал, и Асджер не нашёл ничего лучше, чем войти в ворота особняка Бишигов. Это было, по правде сказать, неплохое решение: у него было приглашение от Ёши, товарища по покеру и любителя запретных гаданий, и за спинами десятков горгулий Асджер мог почувствовать себя в безопасности.
Но Метте была не только мстителем в железных масках, но и двоюродной внучкой старухи Керенберги. И до крыльца Асджер не дошёл: железные кулаки опустились на его спину, а потом били то в живот, то по голове.
— Очень сложно, — покачала головой Става. — Ты уверен?
Ёши не был уверен, — но в тот момент, когда Хавье, гостеприимно разливая по чашкам чай, светски поделился своими замечаниями о том, что Мадс совсем не умеет воспитывать дочерей, всё вдруг сложилось.
Ёши соврал мне о том, что не давал приглашения Асджеру, легко поняв, что я сама не смогу узнать этого в точности. Но таких приглашений было совсем немного. Кто-то ещё из домашних промолчал тогда о приглашении; а с чего бы Керенберге молчать, если только речь не шла о дорогих ей людях?
В ту ночь Керенберга Бишиг не спала: так бывает со старухами, у которых ноют по вечерам все суставы. Голем доложил ей о гостье, вошедшей в дом на правах родственницы; Керенберга смотрела из окна за кровавой расправой, а затем велела голему забыть всё, увиденное в тот день.
Он и забыл — всё, в том числе рецепт приличных шницелей.
Этих подробностей Ёши не мог пока знать, но чутьё его не обмануло. Может быть, там, у закрытого ритуального склепа, в нём проснулись экстрасенсорные способности.
А, может быть, всё в сознании было таким пустым, что россыпь деталей складывалась в решение сама собой.
— Сделай лицо попроще, — сказала Става в своей обычной манере, но в голосе её слышалось неуверенное сочувствие. И спросила громко: — Она не слышит нас отсюда?
Заклинатель, прилаживающийся к граниту гробницы, только покачал головой:
— Полтора метра камня.
Им понадобилось почти два часа, чтобы всё-таки подцепить чарами вбитый в стены клин и, укоренившись в алтарный круг, вытянуть его в залу. В гробнице была темнота, пахло стылой водой и запретной магией, а Ёши вошёл внутрь даже раньше заклинателей.
Может быть, если бы я смотрела тогда в его лицо, я поверила бы в любовь.
Увы, я не могла его видеть. Клинок уже был занесён. Для меня вселенная истончилась и застыла, а из моих глаз на мир глядела безразличная Бездна.
lxxxiv
— Мне очень жаль, господин Ёши. Готовьтесь.
Я слышала голоса будто сквозь вату, смазанным странным эхом, отдающимся болью в ушах. Мои глаза были закрыты, и всё равно перед ними плавали яркие пятна. Они расходились фракталом, распускались бесконечным цветком, как будто в зеркальную трубу калейдоскопа высыпали цветной бисер.
— Это всё, что вы можете сделать?
— Даже дар моего Рода бессилен здесь. Мы можем только замедлить процесс, но это противоречит идеям милосердия. Не нужно её мучить.
— Неужели ничего…
— Вы можете помолиться, господин Ёши, — серьёзно сказал невидимый Сендагилея. — Тьма милостива к своим детям.
Мне хотелось сказать им что-то важное. Что-то яркое, пафосное, такое, чтобы меня можно было запомнить по этим словам. Но калейдоскоп встряхнуло, бисер рассыпался с мучительным звоном, и я зажала руками уши, пытаясь не закричать.
— Тише, тише… ты дома, я здесь. Тебя беспокоит свет?
Что-то коснулось лица. Я чувствовала это издалека, из глубины, как будто и ощущение, и лицо не были моими. Моими были только яркие блики в калейдоскопе, вибрации воздуха и боль.
Шаги. Скрипучий звук вращения — кажется, это сдвинулся небосвод, отмерив мне новый день.
— А ведь Пенелопочка не успела подготовить, — печально сказал кто-то голосом бабушки. — Как вы думаете, что бы ей понравилось? Я думаю, гранодиорит и сталь. Мы должны заказать достойный.
— Достойный что?
— Саркофаг.
Я первый раз слышала, чтобы Ёши повышал голос. У него была странная способность оставаться всегда спокойным и немного лиричным, как будто ничто не могло испортить для него радости созерцания мира.
А теперь он кричал и употреблял слова, которые не полагается знать колдуну из хорошей семьи. Злые, отчаянные, они жалили осами, они летали вокруг хлопьями пепла, скручивались в чёрно-сизую воронку и повторялись многократно в осколках зеркала, которыми стали мои глаза.
— Вы слышали доктора. Вы всё понимаете. Ведите себя прилично.
— Прилично?.. Прилично, бессердечная ты старая сука?!
— Подумайте сами. Где был бы мой Род, если бы у меня было сердце?
Слова рождали эхо, и оно гуляло по пустоте головы, запутавшееся и дикое. Я пыталась схватить их за хвосты, притянуть к себе, ощутить пальцами знакомые формы знаков, но руки ловили лишь пустоту.
Сердце, вертелось в сознании суетливой короткой мыслью. Сердце.
Колдуну никак нельзя слушать сердце. Голос крови должно знать из Кодекса, летописей и учения. Это так странно. Разве не в сердце кровь должна звучать громче всего?
И моё сердце ещё билось. Значит, чёрный ритуальный клинок не успел его коснуться. Но я ведь попросила… или это было в какой-то иной, невидимой сейчас вероятности?
— …не какие-нибудь там костоправы мохнатых, — выговаривала бабушка, — Сендагилея! И если они говорят, что моя девочка…
Я не слышала, что отвечал Ёши. Гулкий хор эха захлестнул меня с головой, протянул коленями по дороге из гранёных камней и выплюнул в чернильную пустоту, расцвеченную прозрачными разводами бензина.
— Это ты виноват, ты!.. Втянул её в…
Прости меня, Ливи. Я знаю: ты не хотела быть Старшей.
Я умираю, понимаю я оглушительно чётко. Пройдёт всего несколько дней, и Бездна, в которую открыты мои глаза, сожрёт мою кровь. И тогда всё закончится.