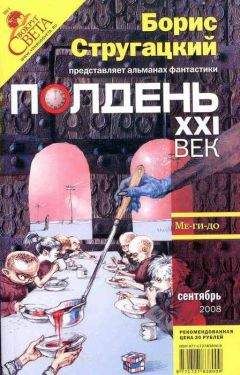В общем, я поднесла чашку с кофе к губам и вспомнила матушку. И ее последние для меня слова: «Бедная моя сиротка». Услышав их, я так отчаянно заплакала, что моментально залила огромную мамину кровать. Почти до краев. Мама покачивалась на моих слезных волнах, как в море, и папа выставил меня за дверь. Я очень хотела послушать, о чем они будут говорить, но плотная дубовая дверь не пропускала ни звука. Наверняка это правильно — нельзя слушать слова умирающего, адресованные другому человеку. Даже если этот другой — твой родной отец. И папа напрасно стоял рядом со мной, когда матушка сказала: «Бедная моя сиротка». Теперь он тоже чувствует себя немного сиротой.
Что-то я сегодня все ухожу и ухожу от темы. Мой учитель словесности был очень недоволен. Он говорил, что в письме важна последовательность и четкость.
Словом, я поднесла чашку к губам и разрыдалась. Чашка тотчас наполнилась через край, и миндальный кофе хлынул на скатерть и мне на платье. Папа вскочил со своего места и бросился ко мне. Сперва я испугалась, что он снова вытащит меня из замка — такие страшные были у него глаза. Даже волосы на затылке заныли. Они научились чувствовать наказание и болеть заранее. Но папа не стал меня наказывать. Он неожиданно меня обнял крепко-прекрепко. Это было очень странно, потому что впервые. Царям не положено обниматься. А тут у меня аж плечо хрустнуло. Не больно хрустнуло, а как-то, можно сказать, что и приятно. Потом я почувствовала на шее что-то мокрое и поняла, что папа снова плачет. Он плакал, и то гладил меня по голове, то обнимал за шею так крепко, что я пару раз слегка теряла сознание. Наконец папа успокоился и обмяк на полу, обняв меня за колени. Таким измученным я его никогда не видела. Словно слезы вымыли из него все силы.
Я постаралась, как могла, его отвлечь. Это лучший способ прекратить слезы. Нянечка всегда рассказывала мне какую-нибудь сказку или пела песенку. Поэтому я сползла на пол рядом с папой, обняла его и спела самую веселую из известных мне песенок. Про серого козлика. Я пела и тихонько покачивала папу, как ребенка. А он слушал. А когда от козлика остались рожки и ножки, папа утер лицо, поднялся на ноги и достал телефонный справочником. Открыл его на букве «П — палачи» и начал всех подряд обзванивать. Давно пора. Царь без палача — нонсенс.
Я очень люблю слово «нонсенс». Оно такое загадочное и похоже на книксен. И слово книксен я тоже обожаю. Жаль, что они такие редкие, не часто удается ими пользоваться. Это так приятно, что я напишу их еще раз. Нонсенс. Книксен. Нонсенс. Книксен. Прелесть!
Ну вот, я снова забыла указать, когда и отчего плакала. А это очень важно. Наш придворный психоаналитик на этом настаивал. И дневники вести изначально меня заставлял он. Сперва мне ужасно это не нравилось. Во-первых, было очень лень и хотелось по вечерам спать, а во-вторых, из-за этих дневников мне приходилось плакать дважды: первый раз по-настоящему, когда кого-то или что-то жалко, и второй — все это вспоминая и записывая. Я вела дневники и очень злилась на придворного психоаналитика. Никак не могла понять, зачем он меня так страшно мучает. И когда психоаналитик внезапно скончался голодной смертью, я обрадовалась, что больше мне не придется себя насиловать. Но уже на третий вечер села и записала все-все за оба пропущенных дня. Привычка. Нет, больше чем привычка. Оказалось, что не записанные дни остаются у меня в голове, а это очень тяжело — носить внутри такую тяжесть.
Так вот, я плакала весь день. Потому что сперва было жалко маму, а потом папочку. Вообще, до сих пор не могу понять, зачем психоаналитик так тщательно докапывался до причины моих слез. Я ведь ему всегда говорила правду, потому что жалко того-то и чего-то, то-то и се-то. Недоверчивый был человек.
* * *
Сегодня папа был очень оживлен и активен. Утром велел мне обвести этот день на календаре красным кружочком. Сказал, что объявляет его государственным праздником тысяча восемьсот пятнадцатого царского указа. И весь день бегал по дворцу, суетясь по хозяйству. Что-то подкрашивал, приколачивал, подтачивал и шкурил. Я сразу поняла, что он готовится к царскому приему. И точно, к обеду начали подтягиваться кандидаты в палачи. Папа с каждым проводил закрытое собеседование. А остальные длинной очередью сидели в коридоре. Я на них смотрела, не отрываясь. Они ведь очень интересные — палачи. Все по-разному одеты. Палачи с топорами носят красные колпаки с прорезями для глаз. А палачи-вешальщики — белые балахоны. Палачи-утопители одеваются исключительно в зеленый, а отравители в желтый. Мне никогда не доводилось видеть столько палачей одновременно. Они чинно сидели, сложив на коленях чехлы и чемоданчики со своими инструментами. И были все такие разные и красочные, что наш коридор очень походил на переездной цирк в момент, когда артисты, уже одетые и загримированные, ждут за кулисами своего выхода на манеж. И мне наконец-то стало понятно, отчего народ так любит ходить смотреть казни. Это очень зрелищно.
Обычно палач нанимается на конкретное задание. К примеру, надо кого-то отдельного отравить, подписывается контракт с отравителем, надо забить батогами, берется порщик. И в очень редких случаях, когда страну ждут глобальные перемены, палач нанимается на постоянную работу. Тариф при этом у него существенно меньше. Ведь ему платят не за одного человека, а за опт. Но зато постоянная работа, а палачи очень ценят стабильность. Папа взял на постоянку рубщика. Выбрал самого фактурного, высокого и мускулистого. С руками, поросшими черным волосом и больше похожими на лапы обезьяны. Папа остался очень им доволен и весь день намурлыкивал какую-то однообразную песенку. Ужинать палач сел с нами. Теперь нас за столом трое.
Примечательно, что я в этот день почти не плакала. Так, совсем чуть-чуть, по мелочи. И хотя папа углядел в этом какой-то положительный знак, мне это очень странно. Я все вспоминала, как плакал папа. Словно у него в каждом глазу открыли по крану. Так же, как я рыдала после веселящих пилюль. Это сходство натолкнуло меня на одну очень интересную мысль: может быть я просто выплакиваю папины слезы? Ведь я очень на него похожа. Покойная бабушка утверждала, что мы с папой в младенчестве были просто на одно лицо. Сейчас, конечно, мы похожи меньше. У папы есть борода и усы. Но глаза у нас одинаковые. И форма ушей. И даже волосы спереди растут слегка вверх у нас обоих. Я свою торчащую прядку туго заплетаю в косу, а у папы она так и топорщится надо лбом, придавая ему слегка несолидный вид. Мы с ним не просто похожи. Я, как его дочь, являюсь его продолжением. А поскольку папа не плачет вообще никогда, его слезы должны куда-то уходить. Иначе бы они давно разорвали его изнутри, как переполненный водой пузырь. В этом плане невыплаканные слезы, как мне кажется, сродни моим не записанным дням. Я не плакала сегодня, потому что мне не пришлось делать этого за папу.
Придворный физик, будь он жив и прочитай мой дневник, скорее всего, надо мной посмеялся бы. По его мнению это противоречит природе вещей. Он бы сказал, что папа, как физическое тело, живет отдельно, а я, являясь тоже отдельным физическим телом, могу зависеть от папиного тела только посредством физического воздействия одного тела на другое. Запутанное объяснение, но придворный физик изъяснялся именно так. Но обязательно все подкреплял примером. Например, если папа меня вытаскивает из замка, и я за косу волокусь за ним следом по коврам и лестницам — это и есть физическое воздействие одного тела на другое. Мне больно, а папе тяжело меня тащить. Ну, не знаю. Я так и не могу с этим согласиться. И папа не смог смириться с тем, что он физическое тело. Поэтому физика пришлось казнить. Чтобы он не канифолил мозги. Мозги для августейших особ важны ничуть не менее этикета. Потому что царь без мозгов это уже не нонсенс, а трагедия государственного масштаба. Вот мне и удалось использовать любимое слово еще раз — нонсенс. Нон-сенс. Но-ннн-сеннн-сссс. Приятно оно тянется. Как жевательная резинка.
* * *
Сегодня я весь день провела с палачом. Сперва я показала ему замок и портретную галерею предков. Палача особенно интересовали вопросы, связанные со смертью моих бесконечных бабушек и дедушек. Кто как, когда и отчего умер. Мы подолгу останавливались у каждого портрета. Я рассказывала, а он очень сосредоточенно рассматривал и слушал. Пожалуй, это самый внимательный слушатель, которого мне удавалось встретить в своей жизни. Особенно его заинтересовал мой двоюродный прапрадедушка Карл двадцать шестой. Толстая и крепкая шея двоюродного прапрадедушки едва поместилась на холсте, и палач стал прикидывать, смог бы он перерубить ее с одного удара, или пришлось бы тяпать дважды. Я спросила — а трижды? Палач сказал, что трижды не рубил даже на последнем курсе колледжа, когда они оттачивали мастерство на быках.
Мы проторчали в галерее до обеда. А после обеда папа заставил палача перемыть посуду. Палач сперва был очень против. У него тоже есть свой палаческий этикет, и если другие палачи прознают, что он мыл посуду — будут над ним смеяться. Но папа показал ему подписанный вчера контракт, где последним пунктом в обязанности палача входило мытье посуды. Палач удивился, что не видел этого пункта раньше, но контракт есть контракт — с бумагой не поспоришь. Пошел мыть.