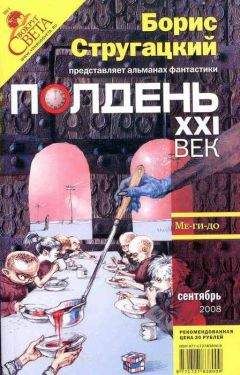Проклятый ковер снова промок. Да так, что слезы протекли на нижний этаж и хлынули с потолка папиного кабинета. По счастью, папа как раз там стирал с книг пыль и сумел вовремя принять меры: наставил тазиков под струи и послал палача вынести ковер на просушку. Палач снова возмутился — он точно помнил, что не нанимался мыть во дворце полы. И папа снова показал ему контракт, где совсем мелкими буковками после всех обязанностей сторон красовался пункт о просушке ковров. Этот пункт тоже стал для палача своего рода откровением. Он даже заподозрил папу в мошенничестве. Но спорить не стал. Спорить с царями даже палачам небезопасно. Поэтому палач поплелся на второй этаж и, ворча под нос ругательства, начал вытаскивать в коридор трюмо.
Под ногами у него хлюпало, словно он ступал по болоту. Палач удивленно посмотрел на меня и спросил, откуда во мне берется так много слез? Я сказала, что не знаю. Ведь это, скорее всего, даже не мои слезы, а папины. Палачу я смогла это рассказать, не боясь быть осмеянной — он не придворный физик. И не ошиблась. Палач всерьез призадумался. А потом ответил, что так оно и есть. Разве что не только папины, но и всех моих неисчислимых и пронумерованных предков: всех Карлов, Вильгельмов, Фридрихов, Александров и Елизавет. А также слезы всех подданных, которые были пролиты из-за них. Все это тоже прекрасно укладывалось в его понятие законов наследственности. Есть время разбрасывать камни, и есть время собирать. И если одному достается вести войны, то другому приходится восстанавливать разрушенные города. А сейчас пришло время оплакивать. И так уж вышло, что роль плакальщицы выпала мне. Я не стала спрашивать — за что. И так поняла. Но на ночь все-таки поплакала. Очень уж стало себя жалко.
* * *
Когда я увидела плотную толпу, забивающую весь внутренний дворик под завязку, я удивилась, что в нашем царстве набралось такое количество холостяков. А еще тому, какой же плотности может достигать толпа людей — там не то что яблоку, казалось, лезвие ножа между ними не просунуть. Но их оказалось еще больше — женихи заняли все пространство коридоров и лестниц так, что мне пришлось пробираться в тронную залу тайным ходом.
Тайными ходами не пользовались уже лет сто. За это время на их стенах наросли длинные бороды серой паутины, а каменная кладка стен заросла грибком и плесенью. Я успела только кое-как счистить с короны налипший мусор, как папа, наспех привязав мои лодыжки и кисти рук к трону, уже распахнул дверь, впуская первого жениха. Им оказался дородный детина со сбитыми в кровь кулаками и свежей царапиной на скуле. Детина поклонился, здороваясь, и принялся меня смешить: вытащил из кармана удивленную жабу, воткнул ей в зад соломинку и, пока я не поняла, что он собирается сделать, надул ее до отказа. Жаба вытаращила глаза от неожиданной боли. Бока у нее натянулись, вот-вот треснут. Папа попытался было поощрительно засмеяться, но смешок у него вышел жалкий, больше похожий на кваканье, потому что папа заранее понял, что сейчас произойдет и судорожно вцепился за занавеску.
Слезы не просто полились у меня из глаз, они хлынули из меня горным потоком, крутя в воронках опрокинутую мебель и накрыв волной окно. Жених утонул практически сразу, а его несчастная жертва пучеглазым мячиком запрыгала на волнах. Папа спасся, вскарабкавшись под самый потолок. Даже не знаю, что бы с нами было, если б не находящийся снаружи палач. Он бросился к нам на помощь, прорубая себе в женихах дорогу, и тремя ударами топора выбил дверь. Слезы хлынули на лестницу, смывая первые ряды женихов под ноги последующим. Кандидаты повалились, давя друг дружку. И когда вода сошла, толпа оказалась значительно поредевшей.
Папа выступил вперед и объявил, что это было небольшое стихийное бедствие, которое благодаря его мудрому правлению уже локализовано — так что нет никакого основания для паники. Палач приступил к ликвидации последствий — взвалил на себя несколько трупов и сбросил в ближайшее окно, выходящее на дворцовый ров.
А я уже вошла в ту стадию слезоиспускания, когда остановиться уже невозможно. Папа нет, чтобы отложить все до завтра, проявил царское упрямство и продолжил церемонию. Сперва запускал женихов по одному. Несчастные, оказавшись в царских покоях да еще и лицом к лицу с бледным от ярости папой, пугались почти до смерти. Один даже потерял сознание, едва за ним закрылась дверь. Некоторые начинали плакать и проситься наружу. Папа никого силой не удерживал — отпускал без лишних разговоров и затаскивал следующего.
Я плохо их помню — все через слезы смотрелись одним размытым лицом. Запомнился только шелудивый старичок, который жестом фокусника вывернул себе губы, обнажив гнилые пеньки зубов. Его мне было жальче всех. Папа схватил его за шиворот и выставил за дверь. И, кажется, здесь я впервые заметила едва слышное тяпанье топора. Тяп! — такой сочный звук, словно кто-то рассекает капустный кочан. А когда за следующим женихом закрылась дверь и звук повторился — Тяп! — я поняла, что задумал папа. Женихи это тоже поняли, и их вопли заполнили коридоры, лестницы, внутренний дворик, всю мою голову и весь мир до самого неба.
Я рыдала, умоляя папу прекратить все это. Билась на троне, пытаясь выкрутиться из веревок. А папа кричал, что если я не прекращу истерику, он отправит на плаху и меня. А когда он понял, что этот аргумент на меня не действует, решил подтвердить его наглядно и позвал палача.
Палач был усталым. Он поставил в углу топор и присел рядом. Достал папироску, прикурил, и пока она дымилась у него в руках, молчал. Я тоже затихла — горло распухло и онемело от крика. Слезы беззвучно лились по щекам, затекая в искаженный от истерики рот. Палач потушил папироску и сказал, что если я хочу прекратить все это, мне нужно рассмеяться. Сделать над собой усилие и рассмеяться. Помни, сказал он, ты всего лишь оружие. Нож, которым отрезают ломоть хлеба. Нож не виноват, когда его оборачивают на убийство, но не вонзиться он не может.
Палач ушел, а папа, приняв мое молчание за хороший знак, запер в зале новую партию женихов. Он сменил подход, решил запускать их десятками. Папа рассчитывал, что женихи, оказавшись в толпе, приободрятся и будут хотя бы смеяться над шутками своих сотоварищей. Но вышло все ровно наоборот. Они подняли такой вой, что выпихнутый в центр сам бросался к двери, за которой его поджидал палач.
Папа не на шутку распсиховался и обратился к женихам с пламенной речью. Да, сказал он, умрет каждый, кто не сможет рассмешить его дочь. Но разве они не знали, на что идут? Ну и что, что этот пункт не был зачитан в указе, это правило внесено в царские законы еще первым правителем и хорошо известно каждому поданному. Да, умрет каждый, кто не попытается спастись. А в чем заключена попытка спасения, всем тоже хорошо известно, и потому папе нет нужды все это повторять. А чтобы женихи пришли в чувство, папа выкатил из погребов десять тысячелитровых бочек выдержанного вина.
Женихи робким ручейком потянулись к бочкам. Каждому папа наливал огромный царский ковш. А когда ковш осушался, запускал в залу. Дело пошло веселее. Пьяненьким женихам море было если не по колено, то точно выше щиколотки. Они рассказывали сальные анекдоты и сами смеялись над ними, согнувшись пополам. Падали на пол, разбивая в кровь носы. Лупили друг дружку сковородками. Плясали в рыжих париках. Кричали петухами и прыгали лягушками. Напускное пьяное веселье понемногу охватывало их все сильнее. Они входили в раж, и головы бились уже о стены, разбрызгивая во все стороны выбитые зубы. Сковородки крошили черепа. А клоуны в рыжих париках вцеплялись друг другу в горло. Но у каждого в мутных от алкоголя глазах плескалась безумная надежда выжить. Стон, хрип, смех и победные вопли. А я изо всех сил пыталась растянуть сведенный судорогой рот в улыбку. Тянула, тянула и потеряла сознание.
Очнулась от пузырька с английской солью, который папа совал мне под нос. Он погладил меня по голове и сказал, что осталось потерпеть совсем немного. Закатные тени уже нарезали тронную на огромные ломти, и вокруг стояла мертвая тишина. Папа раскрыл дверь и в залу вошел аптекарь. Он был бледен и, хотя от него разило алкоголем за версту, трясся от ужаса. И тут только я поняла, каким образом в нашем царстве набралось столько женихов. Соблазн стать царским зятем был так велик, что многие из них оставили свои семьи и подались попытать счастья. Попался на эту удочку и старый аптекарь, отец пятерых детей и муж смешливой толстушки. Он рассказал мне какую-то странную историю про мертвеца и прозектора, и тихое тяпанье подвело итог его жизни. Кажется, он был единственным, кого папа отправил на плаху с неприкрытым удовольствием.
Когда на небе зажглась первая звезда, женихи закончились. Палач вытер пот со лба и с трудом разогнул затекшую спину. Папа схватился было за швабру, но бросил эту дурацкую затею — убирать в замке пришлось бы несколько недель кряду. Он отвязал меня от трона и сказал, чтобы я не переживала заранее, года через три подрастут новые женихи, так что в девках я не останусь. Я снова зарыдала, и папа, расценив мои слезы по-своему, сказал, что, пожалуй, не стоит ждать три года, надо завтра же состряпать новый указ, в котором опустить возрастную планку женихов до четырнадцати лет.