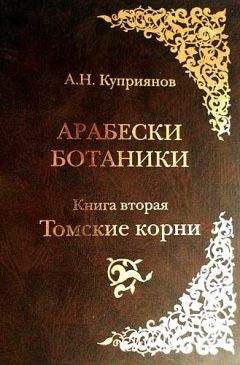Тут репортеры не выдержали и перебили героя дня: как же так, вы же рыцарь пера, незаменимый и неповторимый, а тут, оказывается, рыцарь плаща и кинжала не по вдохновению, а по долгу службы сочиняет нечто, что вы готовы принять за свое?
Рыцарь пера терпеливо объяснил, что писано было все это матерым агентом-полиглотом на более архаичных языках, где давным-давно издержалась рифма и стерлись все ритмы, так что любое произведение, выданное автором за поэтическое, считается таковым. Вот и принимали в цивилизованных странах все, что ни выдавал матерый агент за художество, именно за художество самого высокого пошиба. Даже премии за это давали, о которых я лишь случайно узнавал, и то, разумеется, не всегда. Никто и заподозрить не смел, что все это вовсе не новаторский поэтический язык, а некое агентурное донесение. А у нас, так сказать, в Центре, в тайном приказе, шифровальщики расшифровывали донесение, а в другом, не менее секретном отделе, поэты-переводчики переводили его на русский, рифмовали, а затем все это тайными путями просачивалось уже в нашу печать. А меня потом подвергали гонениям за якобы крамольные мысли и политические намеки, видите, вот так устраивали мне провокации. Но я все равно стоял на своем, отнюдь не отказываясь от грехов, которые мне казались не совсем моими.
Кстати, именно необходимость выдавать донесения моего двойника за современную поэзию тормозила развитие русского свободного стиха, верлибра. Ведь если бы русским поэтам было позволено писать без рифмы, то этим бы воспользовались и многочисленные агенты, работавшие на нашей территории, ибо это бы только облегчило им составление собственных шпионских донесений. Правда, шифровать было бы труднее. Так что верлибр мне удалось ввести гораздо позже. Когда я сам устал от моей рифмы, да и сами движения мои с возрастом стали менее ритмичны…
А не случалось ли так, что нашего рыцаря пера ни с того ни с сего вдруг принимали за шпиона?
Тут Померещенский вразумил журналистскую братию, что, где бы он ни был, его сперва принимают именно за Померещенского, а уже потом за поэта или за кого угодно. Немного подумав, он поделился следующим переживанием:
— Мне иногда казалось на встречах с моей публикой, что кто-то из публики как бы готов меня непосредственно схватить с помощью созерцания. Я, по обыкновению моему, относил это на счет моего обаяния, но после встречи с двойником моим, который, кстати, тоже не без обаяния, я готов предположить, что за мной велась постоянная слежка. Это было несложно сделать, ибо публики я имел всюду предостаточно, в ее среде можно было удобно затеряться. К тому же в некоторых дорогих гостиницах у меня вдруг пропадала обувь, которую я выставлял за дверь, чтобы ее почистили. Я себя утешал, что это мои фанаты, а в худшем случае мои враги, которые готовы подбросить мою обувь у кратера какого-нибудь вулкана, чтобы пустить слух о моей безвременной гибели. Теперь я не исключаю возможности, что подобное хищение было необходимым для того, чтобы служебная собака могла взять мой след, каким бы путем я не шел…
Я оторвался от газеты и пожалел, что у меня нет собаки. Кто же он такой? Агент на пенсии, ставший писателем? Шпионы, возможно, как и летчики, могут рано увольняться на пенсию. Получается, пожалуй, что и агентов больше, чем один, и Померещенских тоже. Недаром писал еще Эмпедокл: «Появилось много существ с двойными лицами и двойной грудью, рожденных быком с головой человека и наоборот…»
С газетной полосы на меня смотрело знакомое и в то же время чужое лицо. Почти гоголевский нос, пушкинские бакенбарды, чеховское пенсне, дикий взгляд и шевелюра, как у Козьмы Пруткова, ну, это, скорее всего парик, а может быть, и легендарная шапка, ведь качество фотоснимка явно никуда не годилось. А я же видел его некогда интимно-лысым, похожим на немецкого литератора Виланда в описании русского путешественника Карамзина. Поверх рубахи-толстовки — галстук-бабочка, или это и есть Золотой Мотылек?
Надпись под снимком гласила: Бессменный постовой, останавливающий прекрасные мгновенья.
Александра Сашнева,
Дмитрий Янковский
ЗАВЕТ ДОВЕРИЯ
Почти никто из людей Ковчега не представлял себе жизни вне корабля, но когда мы приблизились к этой прекрасной планете, всех охватило плохо скрываемое волнение. Люди прильнули к мониторам и часами глядели, как огромная тень Ковчега несется стремглав по бескрайнему океану. Около штурманской рубки выстроилась очередь, там можно было посмотреть на неизвестную землю сквозь иллюминатор. Для родившихся в космосе и привыкших к вечной темноте вид гигантской бирюзово-золотистой чаши океана был зрелищем фантастическим.
Ковчег долго кружил по орбите, вглядываясь в незнакомый мир. Прежде чем принять решение о посадке, мы должны были убедиться, что это место никем не занято. Через неделю дистанционных исследований Совет Капитанов решил, что стоит рискнуть.
Мы попрощались с родными, стараясь выглядеть мужественными и спокойными. Несмотря на тренировки, наши сердца заколотились быстрее, и предвкушение неведомого заставляло глаза гореть особенным ярким блеском. Мы готовились к этому дню долго — чуть ли не с младенчества. В команду десанта выбирали из детей, родившихся в Ковчеге, по многим параметрам — физическим, моральным, интеллектуальным. Потом были трудные, изматывающие тренировки, смысл которых зачастую заключался в том, чтобы научить каждого из нас принимать неожиданные решения в чрезвычайных ситуациях. Зачем? Затем, что Ковчег нес авангардную часть человечества через космос в надежде найти подходящую планету на тот далекий черный день, когда начнет остывать солнце. Много поколений сменилось до того, как на пути Ковчега повстречалась эта планета с райскими островами, но из каждого поколения выбирали сорок восемь самых крепких, смекалистых и решительных — четыре экипажа по двенадцать человек. Немногим из них повезло выполнить ту работу, к которой они готовились всю жизнь. До нас — только единожды.
И вот двенадцать катеров стартовали из люков Ковчега, словно огромные блестящие семена. Несколько витков — и мы оказались на берегу намеченного для первой базы острова. Открыты колпаки, выброшены на песок трапы, сняты гермошлемы.
В первое мгновение — шок. В моих жилах — буря. Я еще не понимаю, что происходит, но сдерживаюсь, чтобы доку не пришло в голову комиссовать меня в первый же день. Я оглядываюсь на остальных — все взъерошены, перепуганы и очарованы одновременно. И все, как и я, пытаются скрыть растерянность. Это успокоило меня, и я позволила себе улыбнуться.
— Совсем как в Оранжерее! — первым воскликнул Павел. — Надо же! Совсем как в Оранжерее!
— Какая Оранжерея! — вздохнул док, хотя было видно, что и он немного не в себе. — Как бы не пришлось лечить вас потом!
— Лечить?! — удивилась я. — Но ведь тут так прекрасно! Я никогда не чувствовала такой легкости и свободы!
— Вот-вот! — проворчал док. — Гиперэмоции истощают нервную систему. Хотя вы прошли серьезные тренировки, я все-таки опасаюсь, что некоторые, из тех, кто высадился с этим десантом, не выдержат такого натиска Стихий.
В устах дока это слово так и прозвучало — с большой буквы.
— Что за Стихии? — спросила я.
В это слово док вкладывал какой-то одному ему ведомый смысл. Для него оно не было простым звуком. Поговаривали, что док участвовал в том, первом, десанте, и вернулся из экспедиции один. Остальные погибли. В учебниках говорилось об агрессивных аборигенах-гуманоидах, а док никогда ничего не рассказывал. Он всем нам годился в деды, хотя на его голове не было ни одного седого волоса. Но во взгляде дока сквозило что-то особенное, чего не замечалось в глазах других жителей Ковчега. Он был немного чужим всем нам, потому что только у него был опыт, которого не было у других поселенцев Ковчега.
— Стихии? — вздохнул док. — Видите ли, друзья мои. Люди Ковчега вынужденно отрезаны от мира, броня крейсера надежно скрывает нас от влияний внешней среды. Это хорошо, потому что благодаря этому мы благополучно совершаем грандиозный перелет во времени и пространстве. Но здесь все будет иначе.
— Иначе? — переспросил Анастас. — Что ты подразумеваешь под стихиями, док?
— Это не объяснишь тому, кто не увидит сам, — вздохнул доки добавил: — Ну, ладно. Может быть, все будет хорошо. Осмотритесь, через час сбор на этом месте.
Он медленным шагом побрел вдоль прибоя.
— Надо же, как старый разволновался! — хмыкнул Анастас.
Через час двенадцать десантников снова собрались на месте высадки, и на лицах друзей я заметила первые следы, оставленные планетой. Ультрафиолет, в обилии посылаемый термоядерной топкой местного солнца, уже позолотил кожу, ветер сделал выразительнее губы и глаза. Мне понравилось то, что планета сотворила с нами в первый же час. Но док окинул первопроходцев острым блестящим взглядом и велел надеть шлемы. Пашка этим не ограничился, а принял еще таблетки от солнечной радиации из штатной аптечки. Мы с Анастасом, не сговариваясь, посмеялись над ним и выполнили приказ последними.