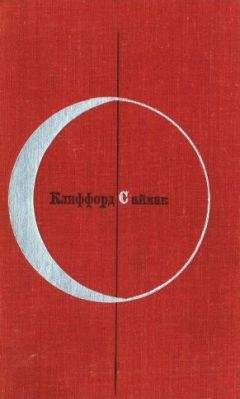Виталий Каплан
ТАЙНА АПТЕКАРЯ И ЕГО КОТА
Я стою перед вами, почтенные братья, обязанный дать отчёт об известных вам событиях. То есть наполовину известных, конечно. По древнему преданию нашему, приступая к своему отчёту, именем Творца Изначального обязуюсь говорить правду, нимало не разбавляя её ложью. Рассказ мой будет долгим, ибо вы велели не упускать ни малейшей подробности, хоть бы мне самому она казалась пустяковой. Я, как мне объяснили, принёс камешки, а уж мудрейшие сложат из них недоступный моему пониманию узор.
Ну, уж как-нибудь справлюсь, почтенные братья! Многие из вас давно меня знают, а кто видит впервые — пусть задаёт любые вопросы. Да, меня уже предупредили, что вопросов будет много и порой самых неожиданных. Надеюсь, вы не сочтёте дерзостью, что во время моего рассказа — который окажется долгим — я время от времени буду пить и есть. Что, кстати, и вам советую. Торопиться же нам некуда, как только что заметил наистарейший брат Ахимасу. Также, насколько я его понял, мне надлежит рассказывать последовательно, не слишком забегая вперёд, и уделять внимание не только твёрдо установленному, но и своим догадкам, всякий раз отделяя одно от другого. А то, что вам и так известно, мне всё равно велено сообщать, ибо присутствуют среди нас и те, кто о сем деле слышит впервые.
Но давайте определимся, с какого места начать мне свой отчёт? Ведь не от сотворения же мира, как это подчас бывает в праведных книгах? Хоть и довольно у нас времени, но не столько же!
Да, вы совершенно правы! Незачем говорить о том, что и так известно каждому в этой горнице. Давайте начнём с того дня, когда я попал в аптекарский дом.
Это был довольно жаркий день, и жара стояла уже целую неделю. Плохо, когда такая сушь в начале лета. Посевы только взошли, нежные они ещё, воды просят, а небо сухо, точно горло пьяницы, которому похмелиться нечем. Да что я вам рассказываю, вы и так знаете, что прошлой осенью был неурожай и цены на зерно поднялись едва ли не вдвое.
Итак, жарило сверху, и небо даже не голубым было, а белесым, как рубаха, которую много стирали и затем сушили на солнце. Час тогда шёл пятый от восхода, и никакой тени — только земля стоптанная, твёрже камня. А ещё воняло изрядно. Там же рядом склады, длинные такие сараи, где торгующие на Нижнем базаре купцы хранят свои припасы. Покупатели на Нижний базар ходят небогатые, а потому и невелика беда, коли товар будет второй свежести.
Где находился я? А находился я в канаве, куда меня пинками загнали трое парней. Тоже из бездомных. Осерчали они, что явился я, никому не известный, прямо на дорогу, ведущую к базару, и принялся клянчить милостыньку. Сами рассудите, не по-людски поступил. Нет чтобы смиренно спросить старшого местных нищих и выклянчить дозволение где-нибудь примоститься с краешку, да пятак за место заплатить, а к вечеру — третью долю с выручки… нет, припёрся то ли дурной, то ли наглый. Известное дело, надо такого поучить.
Вот они и учили — и хорошо ещё, что босота. Пятками по рёбрам — всё же не сапогами коваными. Но всё равно несладко мне приходилось. Рубашку мою латаную-перелатаную и вовсе в клочки изорвали, да и штанам немногим лучше пришлось. Нет, убивать меня им интересу не было, да и калечить тоже. Просто поучить. В канаве-то почти пересохло, не утонешь, не осень. Но и приятного мало. Они там сверху стоят и камнями забрасывают. Не такими, чтобы череп раскроить — мелкими камешками. А знаете, чего мне в тот час более всего хотелось? Никогда не догадаетесь! Умыться! К грязи-то я привычен, но уж больно противно, когда пыль на твоём лице с потом смешалась да с кровью. И ранка-то пустячная, ну, камнем щёку оцарапало, когда на мостовую они меня свалили и месить начали, а кровило изрядно.
Нет, парни эти больше в моем рассказе не появятся, не знаю уж, зачем вам про то, как выглядели они. Обычная такая босота. Старше меня года на два, загорелые — ну, так если целый день на улице, не захочешь, а загоришь. Голоса уже сломались, но то и дело дают петуха. Драться плоховато умеют, сразу видать — просто нищие, а не из ночных. Впрочем, в моём положении и этого хватало. Вот и ревел я в голос, к поту, крови и пыли ещё и слёзы добавляя.
Продолжалось это не слишком уж долго — ну, может, с четверть часа. Больше-то и не надо.
А прекратилось от властного окрика:
— А ну, брысь!
Они и брызнули. Ну сами посудите, как не брызнуть, если на тебя такая махина прёт? И даже не в том дело, что махина, а что одета она, махина, по-знатному.
Первое, что я из канавы заметил, высунувшись — это штаны. Дорогого атласу штаны, цвета полевых колокольчиков. Штука такого от десяти до пятнадцати огримов идёт. И сапоги опять же — короткие, из телячьей кожи, тонкая работа.
А после и остальное разглядел. И кафтан зелёного сукна, серебристыми блёстками по бокам расшитый, и белый плащ модного покроя, и широкий пояс, на котором хоть и не сабля, как у высокородных господ, но вполне себе внушительный кинжал в костяных ножнах. И не в простых, а с узорной резьбой.
Ну и как, по-вашему, станут трое сопливых босяков с таким дядькой связываться? Тем более, полдень уж близок, это тебе не ночью в переулке. Да и вопрос ещё, вышло ли бы у них ночью. Ибо достал дядька свой клинок и начал его пальцами крутить. Ну, кто из вас ножевому делу обучен, тот понимает — большая выучка на такое нужна. Вот и босота поняла.
И я уж о том не говорю, что дядька-то не один был. Стоял рядом с ним парнишка, ровесник пацанам, только что учившим меня уму-разуму. Тонкий да высокий, про таких сказано: согнёшь, да не сломаешь. В простой одёже — рубаха полотняная некрашеная, подстать ей штаны, башмаки деревянные. Через плечо сумка большая перекинута. Волосы почти как у меня, только больше в рыжину уходят, а глаза серо-зелёные, и если приглядеться, конопушки на лице имеются.
В общем, удрали босяки, точно крысы в погребе, когда погромче топнешь да свистнешь.
— Ну, чего разлёгся? — дядька спросил. — Давай уж вылезай, что ли.
Вылез я и ну таращиться на него. А как мне, бедняге-бродяге, не потаращиться на этакое диво? В канаве-то я не всё разглядел. А тут и шляпу приметил, какую стряпчие либо лекаря носят, и цепочку золотую на груди, а на цепочке большой камень зелёный. Изумруд, по всему видать.
Ну, вы уже, конечно, поняли, что то и был он самый, господин Алаглани. А я тогда лишь глаза потупил, рваньё своё озирая.
— Ну что, жив? — голос у него негромким оказался, но каким-то… плотным, что ли.
— Ага! — подтвердил я, не поднимая глаз.
— За что били? — тон его был скучным-скучным, и я сразу смекнул, что скука эта — деланная.
— На чужую землю зашёл милостыньку просить, — ответил я чистую правду.
— И давно землю топчешь милостыньки ради? — продолжил он допрос.
— Уж второй год как, — припустил я слезы в голос. — Как беда у меня стряслась, так вот и хожу Творца ради…
— Беда, говоришь, — хмыкнул он. — Ну, это дело обычное.
И тут он меня удивил. Взял двумя пальцами свой изумруд, поднёс к глазам — и сквозь него на меня поглядел. Будто прозрачен его камень.
— Господин, — подал голос парнишка, его спутник, — нам ещё для госпожи Киури-тмаа глазные капли готовить… и вообще дел по горло…
— Погоди, Халти, — не глядя в его сторону, откликнулся мой спаситель, — тут, видишь, беда у человека.
— Ясно, — хмуро отозвался парень, которого, как выяснилось, Халти звать.
— Ну и вот, — усмехнулся господин и вновь повернулся ко мне. — Как твоё имя?
— Гилар, — без заминки откликнулся я.
— Лет тебе сколько?
— Пятнадцатый год весной пошёл, — ответил я опять же чистую правду.
— Второй год, значит, бродишь по дорогам Творца ради?
— Ага! — А что я ещё мог тут сказать? В подробности пускаться? Так сейчас не след, это после…
— И как, нравится жизнь бродяжья?
Я очень громко всхлипнул и помотал головой.
— В услуженье ко мне пойдёшь?
Так вот сразу и сказал. Как у нас в трактире говорили, «открутить быку хвост».
— А вы кто? — поднял я на спасителя своего глаза. Честно так посмотрел — мол, впервые вас, господин, вижу, а невесть с кем дел не имею.
— Это ж господин Алаглани, придурок! — вмешался Халти. — Наипервейший городской лекарь и аптекарь, почётный гражданин и кавалер ордена Высокой Руки!
Ага. Ну, откуда ж мне, бродяжке, вторую неделю всего в столице обретающемуся, такое знать? Но бродяжка я не совсем тупой, вежеству обучен, и потому склонился перед лекарем в поясном поклоне.
— Ну так как? — повторил он все тем же скучным тоном. — Пойдёшь?
Помолчал я слегка — мол, думаю, шевелю всеми своими мозгами.
— А пойду! А что делать-то надо?
— Да всякое… — улыбнулся господин Алаглани. — По дому там, по саду-огороду, а дальше посмотрим. Работать умеешь?
— Ага! — кивнул я. И снова ведь правду сказал! Уж наверняка не тяжелее, чем в трактире.