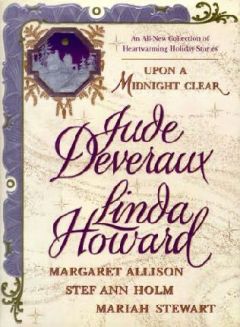Таисия Пьянкова
Черная барыня
Ах, ты, смерть,
ты хозяйка радушная,
всех ты, смерть,
привечаешь, всех жалуешь:
и старых, и малых,
и болявошных,
и скупых, и глупых,
и стоумовых...
Причет на похоронах
Ну и что же? А то, что, бывает, и черт помогает. Наступило времечко – отдала, сатане душу вдова купца Сигарева, Алевтина стал-быть Захарьевна. Да не беда, что померла, беда – страху навела. Ох же и досталась ей смертушка лютая – сохрани нас и помилуй, царица небесная!
А вспомнить?
Ох, какой раскрасавицей заявилась эта Алефа в село Раздольное! В то самое село, которое и доныне прислушивается ночами, не черная ли барыня бродит под окнами…
Перед Алефиной красотою тогда даже собаки рты поразевали. И никто из ротозеев не опомнился тогда спросить-узнать, из какого-такого теста, чьим-таким неземным умением сотворена да выпущена в мир божий столь колдовская пригожесть, что и вздохнуть-то при ней глубоко казалось опасным: вдруг да атласная белизна кожи ее отпотеет да померкнет?! Ой, какая большая досада получится! Не лучше ли маленько затаиться да потерпеть?
Но не больно-то долго выпало селянам любоваться Сигарихиными прелестями. Скоро им самим глаза испариной позатянуло – настолько сквозно понесло от красавицы студеным ознобом. Недели путевой не минуло, а народ уже успел понять, что берестяная белизна Сигарихина тела натянута на ледяную болванку ее души.
Как она лопала в Раздольное? В Раздольное доставил ее уже упомянутый купец Сигарев, Кузьма Никитич. Женою доставил, а не какой там шабалою[1]. Он же раскрасавицу свою Алефу умудрился на свою голову отыскать где-то ажно под горою Белухою, что высится посреди синего Алтая.
Близ той Белухи, по приискам, Кузьма Никитич всею куплей-продажею заправлял. Он вообще-то, купец Сигарев, от самой Катуни до Сосьвы, и ниже Сосьвы, пользовал товарами все Приобье. А она, Алевтина Захарьевна, не будь дурою, взяла и охомутала богатого мужика. Сигарь к тому времени вдовцом ходил. Хорошую жену похоронил. Страдал как умел, Алефа его и приголубила. Новой, однако, Сигарихе было желательно ходить под богом состоятельной вдовою, нежели под взглядом захворавшего великой ревностью Кузьмы Никитича каждодневно изображать полное смирение.
Да-а. Баба захочет, и Господь не отстрочит.
Так оно и получилось.
Вечор купец Сигарев жил-здоровал, а поутру купца да воробей склевал. Был да сплыл Кузьма стал-быть Никитич. Будто бы спорые до дела руднишные старатели взяли да и смыли его с лотка в протоку пустой породою.
А подкузьмила Кузьму его же любимая забава. Нравилось Сигарю заводить в парной бане гулянку.
И ничего тут не поделаешь. Ведь исстари подмечено, что всяк своей охотою дурак. Она и у Кузьмы Никитича имелась, своя шаль. Накатывала шаль на купца всякий раз да в жаркой бане. Пар что ли ему густой на бешеное место давил? Обычно тороватый Сигарь вдруг да начинал хорохориться перед голыми гостями, схватывался за ковш – кипятка черпать… Сыпались тогда сорюмашники его через порог да оборванными бусами скакали-рассыпались по задворному бурьяну. Хозяин же вдогонку им разбойно свистал да горланил во все горло:
– Э-эй! Шерстоногия! Не зацепитесь…
Ну и дальше чего-прочего советовал. Такие порой наказы выдавал, какие не всякому слушать полезно.
Разгонит этак Сигарь хмельную компанию, сам воротится в парильню да свалится дрыхнуть на высокий полог. И не приведи тогда Господь сунуться кому до Кузьмы Никитича с делом каким неотложным – захлестнет, имечка не спросит!
Обычно отходил он от «парильни» своей жаркой только лишь поутру. В просторном предбаннике полным черпаком заливал в себя загодя припасенной медовухи, хакал так, ровно слегу через колено ломал, затем одевался, топал прямиком на кухню, где ждали его дымные щи да круто заваренный чай. После щей да чаю долго сидел купец, отдувался, с короткими смешками встряхивал косматой головою; похоже, выгонял из нее память о вчерашней потехе…
А на этот раз, когда случилось непоправимое, уже и медовуха в предбаннике скисла, и щи в кухне ледком подернулись, и чаек сдох – Кузьма Никитич все не поднимается с полка, все не хакает над пустым ковшом, не встряхивает буйной головушкой… Что же затишье это самое значит? Как же это самое затишье толковать?
– Господи, помилуй и пронеси,– шушукается по углам испуганная дворщина.
Алевтина ж Захарьевна, не перетерпевши ожидания, вдруг да посылает увертливых приказчиковых двойнят заглянуть в парильню:
– Прошмыгните-ка, быстрые, узнайте. А я вам по денежке подарю…
Побежали шустрые, прошмыгнули-глянули. И повело у них у обоих глаза враскос. Оказалось, что лежит Кузьма Никитич врастяжку, не дышит – спекся купец на сырой полке.
Засуетилась, забегала дворщина, запричитали бабы, загудели мужики:
– Очадел наш батюшка Кузьма Никитич. Угорел, кормилец. Осиротил молодую женушку…
Да чтоб бы вы все полопались от жалости!
«Сирота», конечно, не высказалась вслух. Она лишь только глянула на скорбящих жутким своим глазом, но все сразу же услыхали, как жикает по двору осенняя мухота…
Ну а потом?
Потом обнаружилось, что банная труба завалена дерниною. И место, где чье-то злое усердие острым заступом вырубило подходящий для трубы пласт, отыскалось. Тут же, сразу за пригоном.
Только прок-то какой с того, что отыскалось? Рук-то своих за пригоном злодей не оставил. Ну, а без улик и корова – бык. Выходит, что поймали – охапку ветра. Вот и суди тут, гадай, хоть пень бодай. Толку-то.
Купец Сигарев, будучи когда не первым, то уж далеко и не последним на сибирской стороне торговым хозяином, случилось, за немалую жизнь свою наследников не заимел. Потому-то полновластной хозяйкою накопленному покойным Кузьмою Никитичем богатству и становилась отныне красавица Алевтина Захарьевна.
Не бойтесь. Неожиданно свалившаяся на Сигариху этакая золотая тяжесть не придавила ее. И убиваться над столь ранним вдовством она, понятное дело, не стала. Чуток да маленько погодила, плечиком белым дернула, губки свежие надула, повела гордой бровью…
И все это проделала она, глядя на родовой, давно тронутый прелью сигаревский особняк. Затем Алефа чихнула на него основательной, усердным проворством наемных мастеров, за недолгий срок отгрохала себе такие ли хоромы, какие не у всякого князя отыщутся. Только лишь просторных горниц оказалось в доме нагорожено столько, что и сосчитать их было невозможно с одного захода. Тут чужому человеку надо было бы ходить как в тайге – зарубки делая. Более двух десятков голландских печей для угреву да три высоких чувала[2] для фасону холодным временем года с таким прожорством заглатывали поленья, что Алефин истопник Кирилл Немец, прозванный так за крайнюю тугоухость, переваривал в себе молчуна да жалобился косноязыко дворнику Ермолаю: