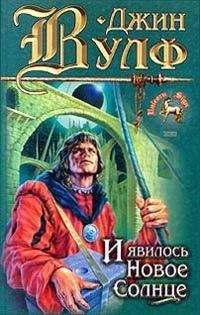Джин Вулф
И явилось новое солнце
Проснись! Пал в чашу ночи камень тот,
Что гонит с неба звездный хоровод.
Охотник-Утро затянул петлю зари
На башне, где султан живет!
Ф.С.Фицджеральд
Забросив одну рукопись в моря времени, я начинаю все заново. Конечно же, это глупо; но я не настолько глуп – ни теперь, ни в будущем, – чтобы надеяться, что кто-либо когда-либо прочтет мой труд, хотя бы даже и я сам. Поэтому я расскажу, никому и низачем, кто я такой и что я сделал для Урса.
Мое настоящее имя – Северьян. Друзья мои, коих никогда не было в избытке, звали меня Северьян Хромой. Многочисленные солдаты под моим началом (их, впрочем, вечно не хватало) прозвали меня Северьян Великий. Среди врагов, которые плодились как мухи и словно мухи – благодаря трупам, покрывавшим поля моих сражений, я получил известность под именем Северьян Палач. Я был последним Автархом нашего Содружества, а посему – единственным законным правителем этого мира, когда мы звали его Урсом.
Что за напасть это писание! Несколько лет назад, если время еще имеет какое-то значение, я занимался этим в моей каюте на корабле Цадкиэля, воссоздавая по памяти книгу, которую я сочинял в клерестории Обители Абсолюта. Я сидел и водил пером, как какой-нибудь писарь, занося на бумагу слова, которые сами собой всплывали в моей голове, и мне казалось, что я совершаю последний осмысленный или, вернее, последний бессмысленный поступок в моей жизни.
Так я писал, ложился спать, вставал и писал снова, строча строку за строкой; воскресив наконец тот миг, когда я вошел в башню бедной Валерии и услышал, как эта твердыня и все остальные говорят со мной, я ощутил на своих плечах гордое бремя мужа и понял, что я больше не мальчик. Минуло десять лет, подумал я. Спустя десять лет я писал об этом в Обители Абсолюта. Сейчас же с того времени прошел уже век или больше. Кто знает?
Я взял с собой на борт узкий свинцовый ящик с плотной крышкой. Моя рукопись вошла в него, как и было задумано. Я закрыл крышку, запер ее, перевел свой пистолет на самый слабый заряд и лучом сплавил корпус и крышку воедино.
По пути на палубу надо пройти через таинственные коридоры, где порой эхом разносится голос, который нельзя толком расслышать, но всегда можно понять. Добравшись до люка, следует надеть воздушный плащ – невидимую атмосферу, которую удерживает приспособление, с виду напоминающее ожерелье из блестящих цилиндриков. Для головы – воздушный капюшон, для рук – воздушные перчатки (они тонкие, и когда хватаешься за что-нибудь, чувствуешь внешний холод), воздушные сапоги и так далее.
Корабли, которые ходят между солнцами, не похожи на корабли Урса. Вместо привычной конструкции они представляют собой череду палуб, и, перебравшись через ограждения одной, обнаруживаешь, что попал на другую. Палубы обшиты деревом, которое противостоит смертельному холоду лучше, чем любой металл; но под деревом – металл и камень.
Каждая палуба несет мачты в сто раз выше, чем Флаговая Башня Цитадели. Мачты кажутся прямыми, но если смотреть на какую-нибудь из них снизу, словно на длинную дорогу, уходящую за горизонт, то видно, что она чуть изгибается под солнечным ветром.
Мачт бессчетное количество; каждая несет по тысяче перекладин, и на каждой – парус цвета сажи с серебром. Они заполняют все небо, и если стоящему на палубе захочется увидеть лимонные, белые, лиловые или розовые лучи далеких солнц, ему придется высматривать их меж парусами, словно между мчащимися тучами ветреной осенней ночью.
Как говорил мне стюард, иногда случается, что матрос срывается с мачты. На Урсе несчастный обычно падает на палубу и разбивается. Здесь такой опасности нет. Хотя корабль велик и полон сокровищ и хотя мы куда ближе к его центру, чем те, что ходят по Урсу, к центру Урса, притяжение корабля весьма слабо. Зазевавшийся матрос парит меж парусов и мачт как пушинка, и самое неприятное для него – насмешки товарищей, которые, впрочем, он не может услышать. (Ибо пустота глушит любой голос, и говорящий слышит лишь сам себя, если только двое не сблизятся настолько, что их воздушные оболочки объединятся.) Говорят, что в противном случае рев солнц оглушил бы вселенную.
Я мало в этом разбирался, когда ступил на палубу. Мне сказали, что нужно надеть ожерелье, а люки устроены так, что прежде чем открыть наружный, нужно закрыть внутренний – но не больше. Вообразите же мое изумление, когда я вышел наружу, зажав свинцовый ящик под мышкой.
Надо мной высились черные мачты и серебряные паруса, все выше и выше, пока не начинало казаться, что они задевают за звезды. Снасти сошли бы за паутину какого-то гигантского паука, большого, как сам корабль, – а корабль был больше, чем многие острова, достаточно великие, чтобы их правитель мог чувствовать себя полноправным монархом. Палуба была широка, как равнина; мне едва хватило всей моей храбрости просто шагнуть на нее.
Пока я сидел и писал в своей каюте, я едва ли осознавал, что мой вес уменьшен на семь восьмых. Теперь же я сам себе казался призраком или, точнее, бумажным человечком, достойным мужем той бумажной девушки, которую я в детстве разрисовывал и одевал в бумажные наряды. Тяги у солнечного ветра куда меньше, чем у самого легкого дуновения зефира на Урсе; но каким бы легким он ни был, я почувствовал его и испугался, что меня снесет с палубы. Казалось, я плыву над ней, а не ступаю ногами; и я знал, что так оно и есть, ибо ожерелье удерживало тонкие прослойки воздуха между досками палубы и подошвами моей обуви.
Я огляделся в поисках какого-нибудь матроса, который посоветовал бы мне, как подняться, ожидая, что их будет множество на палубе, как на палубах наших кораблей на Урсе. Вокруг никого не было; чтобы уберечь от лишней траты свои воздушные оболочки, моряки постоянно находятся внизу, кроме тех случаев, когда они нужны на палубе, что, однако, бывает весьма редко. Не придумав ничего лучше, я громко позвал к себе. Никакого ответа, разумеется, не последовало.
В нескольких чейнах от меня высилась мачта, но с первого взгляда я понял, что взобраться на нее нет никакой надежды; в обхвате она была толще любого из деревьев, когда-либо почтивших своим появлением наши леса, и гладкая, словно из металла. Я шагнул вперед, опасаясь сотни вещей, которые не причинили бы мне вреда, и совершенно не подозревая о настоящих опасностях, которым я подвергся.
Большие палубы сделаны ровными, чтобы матрос на одном ее конце мог подать знак своему товарищу на другом; если бы они были изогнуты и равноудалены от срединной линии корабля, моряки не видели бы друг друга, как скрыты друг от друга горизонтом корабли на Урсе. Но палубы ровные, и оттого кажется, будто они чуть искривлены, если только не стоять в самой середине. Поэтому мне, несмотря на легкость моего тела, показалось, что я взбираюсь на призрачную гору.