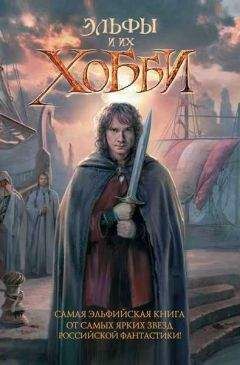Юлия Зонис
Говорящий с ветром
…И улыбнется нам в конце дороги
Товарищ Моргот, товарищ Моргот.
Карен Налбандян
В его сердце пел ветер.
«Се ра. Се ра шанс куо на мори».
Ветер пах пыльной травой, сухими пропеченным солнцем венчиками соцветий. Ветер пах горами в синей дымке, с белыми просверками ледников на вершинах. Се ра… Это было давно.
Малек на Лабад по прозвищу Синий Лис не любил вспоминать резервацию, потому что за воспоминанием всегда следовала боль. Лучше вспоминать интернат. Зачастую Малек так и делал, стоя на крыше переговорной станции, за низким железным ограждением.
В интернате их было всего семеро. Семеро мальчишек из разных концов страны, из трех оставшихся резерваций. Мужчины и женщины его племени редко рожали детей. Как шутили л’амбар — люди, смертные: «Остроухие плохо размножаются в неволе». Глядя на кипящую полосу прибоя внизу, в черных, обточенных морем камнях, Малек вспоминал интернат.
Если семеро мальчишек, детей вымирающего племени, живут в одном доме, логично предположить, что они станут друзьями. Однако было не так. Нижние, аль-ра, Дети Равнин, никогда не дружили с верхними, имман-ра, Детьми Гор. Да и между собой не слишком дружили.
Переводя взгляд с каймы белой пены, жмущейся к скалам, на высокое, чернильно-синее небо в белых крапинках звезд, Малек думал о Хорихе. Их с Хорихом забрали из одной резервации, расположенной в равнинных землях у подножия Хейт-ваан, Обрывистого Хребта. Их матери дружили, их отцы пасли скот на одной скудной земле. Их деды и прадеды входили в Совет племени. Но Хорих не был его другом. Хорих вечно был недоволен — кормежкой, учителями, запахом в дормитории. В черных глазах Хориха плясали гневные искорки, временами разгоравшиеся в темный огонь. Когда их с остальным классом возили на экскурсию в город, Хорих кривил губы и шипел: «Это не нам показывают их. Это им показывают нас. Диковинных зверюшек». Из семерых воспитанников интерната Хорих больше всего походил на л’амбар. Сними с него унылую школьную униформу — мешковатые брюки из бурой ткани и такую же куртку — и переодень в клетчатую рубашку и шорты, он вполне бы мог сойти за одного из тех пацанов, что пялились на их автобус из-за беленых оград. Если бы не чернота глаз, беспросветно-темных, без белка. У самого Малека в глазах плескалась чернильная синева ночного неба. У верхних глаза были пронзительно-голубые, как вода их горных озер, питавшихся от самих ледников.
И все же Хорих был примерным учеником, а он, Малек, не преуспел ни в одной науке, кроме той, ради которой их и собрали в интернат. Все они вырастут и станут переговорщиками. Их наймут богатейшие корпорации. Их будут использовать на правительственной службе и, особенно, в армии. Л’амбар не умели говорить с ветром, а их «радио» не умело хранить секреты.
Стоя на крыше переговорной станции и глядя то на бушующее внизу море, то на плоский, усыпанный валунами берег, то в небо, налившееся такой же, как у него в глазах, синевой, Малек пытался понять — почему он так часто думает о Хорихе? Может быть, все дело в том, как тот покинул интернат? Может, Малек ему завидовал? Может, надо было поступить, как Хорих, а не покорно сидеть на уроках, пялясь в окно на опадающую листву кленов и слушая монотонную бубнежку учителя? Может, не стоило пропускать мимо ушей все эти «кормишь их, кормишь двадцать лет… проклятые остроухие, когда же они, наконец, повзрослеют? Когда возьмутся за дело?» Может, не надо было покорно принимать назначение и ехать на островок в море Эккайя, на почти заброшенную переговорную станцию под дурацким названием «Жемчужная Гавань»? Самое смешное заключалось в том, что тут не было никакого жемчуга. Ни раковин жемчужниц, ни ловцов жемчуга, только военные самолеты и военные корабли.
Может, и надо было поступить, как Хорих. Иначе почему в последние дни он так часто думает о Хорихе?
* * *
Я обыграл толстого полковника в карты. Это было особенно приятно потому, что потливый жирный хрен никогда не упускал случая меня поддеть.
— Рихе, говорил он, — почему ты не носишь черные очки? Тебе надо носить черные очки, и тогда никто не поймет, что ты из рьеханов.
Р’ха — «Говорящие» — так он коверкал имя моего народа. За одно это следовало его обчистить и пустить голеньким плясать по палубе.
Смахнув со стола карты, полковник забормотал что-то о расписке. Я улыбнулся. Моя улыбка всегда нервировала л’амбар. Сами они гордо именовали себя людьми, не подозревая, что на нашем языке слово «л’амбар» означает не только «немой», но еще и «недоумок». И полковник был, конечно, неправ. Нацепи я хоть три пары темных очков, улыбка меня мгновенно бы выдала. Зубы у нас острее, чем у этих всеядных, пожирателей падали, клубней и травы. Даже их наука подтверждает, что травоядные всегда тупее хищников.
Полковник Такеси Того все же отдал мне деньги и, недовольно морщась, развернул на заляпанном столе карту. Махнув рукой, чтобы отогнать от лица наполнивший каюту табачный дым, он ткнул коротким и толстым пальцем в одинокий островок. Островок был частью архипелага с непроизносимым человеческим названием, но полковника интересовал только один порт. «Жемчужная Гавань». Еще одно недоразумение л’амбар. Никакого жемчуга там отродясь не водилось, и эти недоумки не понимали, откуда взялось такое название. Жемчужный, цвет жемчуга — серебристо-серый. Мои одноклассники были не слишком внимательны на уроках истории, а вот я времени даром не терял. В отличие от других островов архипелага, этот островок когда-то был частью полуострова — западной оконечностью континента, который мы считали своей родиной. Когда-то из его гавани на Запад уплыли белые корабли. С тех пор материки сдвинулись, и море затопило перешеек, стерев с лица земли поселки и города. Однако память моего рода оказалась воде не по зубам. Я помнил, как помнил мой отец и дед, и дед деда — тысячелетия назад огромный флот покинул Серебристую Гавань, и где-то за белой полосой прибоя и бесконечностью волн жили наши.
Перед отплытием тот, кто вел корабли, поклялся, что сожжет все суда и никогда не вернется на оскверненную землю. Он уплыл, уплыли и те, кто пошел за ним. Мы остались. Неверный выбор.
— У них там есть переговорная станция, — прокаркал мой полковник.
Голая электрическая лампочка под потолком мигнула и вспыхнула ярче. Каюта полковника была тесна, но все же он ухитрился впихнуть сюда эти вечные человеческие мементо, выцветшие фотографии в траурных рамках. Со стены над заправленной койкой смотрели женщины, дети, старики, позирующие перед одноэтажными домиками с плоскими крышами, с маленькими бассейнами, с уродливыми статуями божков. За рамку одной фотографии даже был заткнут сухой букетик какой-то дряни. Сентиментальность присуща сволочам, а мой полковник был той еще сволочью. Я знал это прекрасно, ведь он курировал меня последние пять лет.