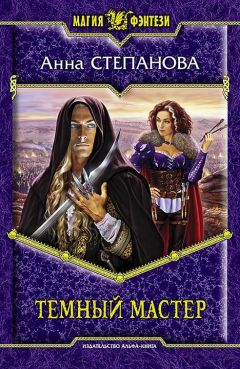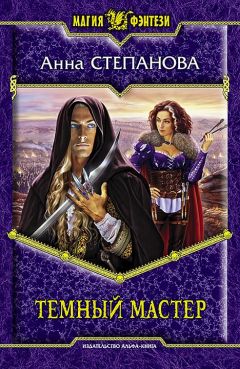Старик шутки совсем не оценил. Опомнившись, что-то зашипел сердито, заставив юношу с девушкой сначала встать на алтаре лицом к лицу, затем опуститься на колени. Кончиком ножа уколол им пальцы и выдавил по капле крови в раскрытый медальон Лаи, которому отныне предстояло стать связующим предметом и хранилищем их душ после смерти.
Когда темные пятнышки на тусклых портретах высохли, жрец приказал молодым людям взяться за руки. Сам замер в шаге от пары, собираясь с силами, концентрируясь на той невидимой паутине, что должен будет сейчас сплести…
Обряд начался.
Первое касание жреца Огнезор ощутил так ярко, словно над ним рассыпали раскаленный уголь. Слишком грубо для человека, что проделывал подобное скорей всего не одно столетие — впору заподозрить старика в небольшой мести.
Впрочем… и дьяволы с ним!
Очень быстро юноша вообще перестал его замечать.
Потому что чем крепче сжимал он руки Лаи, не отрываясь от ее глаз, тем сильнее чувствовал, как старый жрец, алтарь, чадящие лампы, сыплющийся сверху снег будто растворяются, теряют плоть и смысл. Как вместо этого чужая сила захватывает его, вначале проявляясь лишь легкой щекоткой, потом настойчивым, проникающим течением — и вот уже странные, полузнакомые ощущения полностью покоряют его: то острые и резкие, то тягучие. Он не знал ничего подобного уже много лет и почти забыл. Боль — вот что это такое! Не его — Лаи.
Глухо пульсируют ее уставшие мышцы и синяки, тоненько отзываются перемерзшие пальцы, неприятно жгут сбитые в дороге ступни…
Ее боль обрушивается на Огнезора — такая разная, яркая, слишком отличающаяся от привычного, однообразного покалывания, которым его собственное тело обычно сообщает о ранении. Она оглушает, сбивает с толку, почти вышибает дыхание.
И времени опомниться уже нет. Мощный поток подхватывает, сминает, швыряет вперед, заставляя захлебнуться в таком же сильном встречном потоке.
Лая!
Их души распахиваются друг перед другом — до самого донышка. Расходятся, подобно краям сорванной раны.
И это… отвратительно.
Каждое грязное пятнышко, каждая подлая, некрасивая мыслишка, каждая тайна, в которой страшно даже самому себе признаться, выплескивается теперь наружу, бесстыдно выставляясь напоказ. Перед другим. Перед чужим — потому что до сих пор они действительно не знали друг о друге ничего.
Теперь же — все на виду.
Ее холод — холод маленькой девочки, забирающей последнее тепло у остывающего тела матери.
Его злость — злость мальчишки, часто и всеми битого.
Ее зависть — зависть нескладного волчонка к взрослым цветущим красавицам, на которых он смотрит с таким интересом.
Его ревность — первая, неосознанная, а оттого еще более жестокая.
Ее желание унизить и высмеять. Его эгоизм и себялюбие.
Ее отвращение от липких, сминающих лап, боль тела, разрываемого чужим телом. Его похоть, ласки женщин, чьи лица стерлись даже из идеальной памяти, а имен он так и не узнал.
Их мертвецы.
Убитые ею. Убитые им…
И дальше — только хуже.
Лая вдруг дергается, вырывается — не физически, но мысленно, потому что сила, вытряхивающая из них все до крупицы, тянет из него теперь воспоминания, которым лучше бы исчезнуть вообще.
Испытание Боли.
Каждую иглу, каждый удар, каждый надрез.
Он кричит, как и тогда — беззвучно, лишь в своих мыслях, и она кричит вместе с ним. Кричит так ужасно, что ему на миг кажется: она не выдержит. Просто сойдет с ума, как сходили многие.
Но и это проходит.
Кусочки их сознания мелькают все быстрее, норовя утопить в цветном, многоголосом тумане — и страх, боль, отвращение вдруг растворяются, уступив место легкой грусти, любви, восторгу. Его (ее?) радости. Ее (его?) вожделению.
Теперь между ними нет границы.
Его (ее?) пальцы зарываются в волосах, ее (его?) губы тянутся к губам, руки рвут одежду, кожа касается кожи, тело вжимается в тело…
— Теперь же слейтесь плотью, как слились душою, — вслух завершает свой безмолвный ритуал жрец.
Волна желания накрывает, топит все, что осталось от мысли в их едином теперь существе. И лишь напоследок мелькает в сознании злорадная тень — ибо кто-то чужой, кто-то третий хотел прорваться к ним в последний миг, но был жестоко вышвырнут за тотчас же возведенную стену.
Они в безопасности.
Слава сжимала кулаки — так сильно, что почти лопалась обмороженная кожа на костяшках пальцев. Отсюда, сверху, сквозь глубокую расселину на диво правильной формы большая часть освещенного огнями пещерного островка была как на ладони.
Она знала, что должна отвернуться. Не смотри! Не смотри, убеждала она себя — но не могла сделать ни движения в сторону.
Ослепительная ярость поднималась в ней…
— А-а, вот и ты, — послышался сзади хриплый старческий смешок.
Слава резко обернулась. Маленький неприятный старичок в шерстяной жреческой хламиде ссутулился сзади, опираясь на посох и опасно сверкая на девушку жесткими черными глазами.
— Нравится подсматривать? — ехидно спросил он, недвусмысленно указывая посохом на расселину.
— Не твое дело! — немедленно огрызнулась Слава, заливаясь злым румянцем.
— Да мне-то что? — пожал плечами старичок. — Смотри на здоровье! Им сейчас — хоть над самым ухом заори — все равно не заметят. Даже ребенок с легкостью мог бы всадить кинжал в сердце. Вот только, — кинул он на вмиг напрягшуюся Славу быстрый нехороший взгляд, — связь пока так сильна, что умри один — умрет и другой… Но если дня через три-четыре…
— Зачем ты говоришь мне все это? — насторожилась девушка.
— Ты знаешь зачем, милая, — приблизившись, вкрадчиво выдохнул ей в ухо старик. — Вот здесь, — приложил он руку к ее сердцу, — здесь ты уже приняла решение…
Он издал еще один странный смешок и отступил, потихоньку спускаясь с холма.
Снег жалобно скрипел под его ногами.
— Ты можешь пока зайти ко мне, отдохнуть и погреться, — не оборачиваясь, крикнул он уже снизу застывшей недвижно Славе. — Накормлю, пальцы твои вылечу… Наша парочка еще дня два в себя не придет.
Бросив последний взгляд в дыру, девушка уныло поплелась следом.
Глава последняя,
в которой приходит четвертый месяц зимы
Лая потянулась, не открывая глаз. Как кошка, потерлась затылком о теплые, тугие мышцы на груди обвивающего ее мужчины, с трудом сдерживая счастливое урчание.
Она вновь была собой.
Ну, не совсем.
Эдан все еще был здесь, на краешке ее сознания — исполненный легкости, тихого ликования и (кто бы сомневался!) глубокого мужского самодовольства.