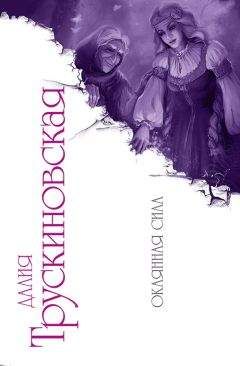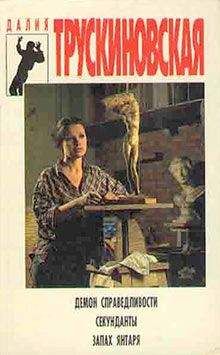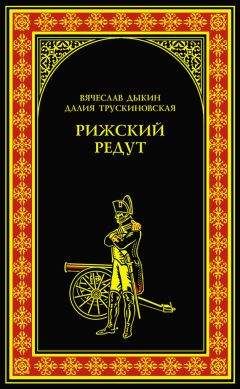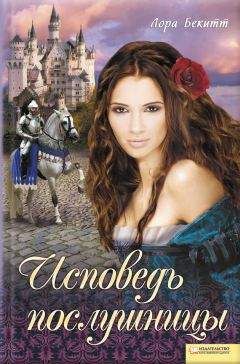Ознакомительная версия.
Алена взяла Даниэля под руку и пошли они чинно в гости к почтеннейшему купцу Данненштерну. Встречные женщины поглядывали на Даниэля — по здешним вкусам, хорош, дороден, выступает неторопливо и достойно, и даже троебровость придает лицу значительности — вполне подходящий для гордого бурной молодостью мужчины шрам, может, даже и от шпаги… Алена-то знала, что от дурацкого осколка взорвавшейся на пламени стеклянной посудины, насилу кровь унять удалось.
Вот так-то бы в светлый праздник пойти — не под руку, на Москве так не заведено, — а рука об руку с Владимиром в храм Божий, держа на лицах улыбки, чтобы все глядели на них и радовались невольно — ах, что за ладная пара…
У Данненштерна кроме супруги, фрау Марты, Давида Мартини Второго, судовладельца и еще одного любителя редкостей, Генриха Меллера, врача, была одна из племянниц купца, Барбхен. Алена сразу сообразила, зачем она здесь — судовладелец-то этой весной овдовел, вот фрау Марта и торопилась занять его мысли достойной девицей. Барбхен в беседе почти не участвовала — слушала, соглашалась, а когда предлагали пальчиком прикоснуться к сокровищу собирателя — исправно прикасалась.
Меллер принес с собой малую аптечку — шкатулу, которая отворялась сбоку наподобие шкафа и имела в себе великое множество ящичков. Ему как врачу и полагалось иметь на всякий случай такую аптечку, но на сей раз она потребовалась вовсе не для лекарского дела. В ящичках лежали китайские диковины — мода на них повелась от голландских купцов, которые снабжали фарфором спервоначалу всю Европу.
Это были бронзовые плоские жезлы с мелко вычеканенным рисунком, деревьями и людишками, украшенные подвесными кистями, фарфоровые чашечки, на которых кроме тонко выписанных многолепестковых цветов были еще почему-то и корявые грибы, бумажные расписанные горами и долинами веера, крошечные коробочки с рябыми каменными стенками и крышками, зеленоватые монеты с квадратными дырками — любознательный Мартини, вздев на нос очки, пристально разглядел рисунки на них и, оскалив все желтоватые зубы, сколько их еще у него оставалось, тоненько захихикал.
Фрау Марта, чтобы отвлечь Барбхен от аптекарского подозрительного веселья, заговорила о странном кольце, вырезанном из слоновой кости.
— Праща Давида нам уже известна, — усмехаясь тонко, как подобает супруге подлинного и ученого собирателя редкостей, заметила она. — А теперь, господа мои, прибыл и перстень Голиафа.
— Вряд ли Голиаф носил перстень, на котором вырезаны драконы, любовь моя, — ласково отвечал жене Данненштерн. — Но удивительно, что в том месте, где должен был быть драгоценный камень, всего лишь шарик из слоновой кости.
— А что, если заменить его? — предложил Меллер. — Получится, что драконы вступили в схватку из-за изумруда, к примеру, или большого красивого топаза.
Перстень, выточенный на великанский палец, пошел по рукам. Когда его получила Алена, ей сделалось как-то странно. Она поскорее вернула вещицу, от прикосновения к которой перед глазами почему-то туман поплыл и внизу живота жарко сделалось. Мужчины вольнодумно толковали о том, что найдены где-то были огромные кости от тех великанов, что, возможно, жили еще до Адама. И предполагали, что неудивительно было бы встретить нечто подобное в диком Китае…
Потом все подивились тонкости рисунка на чашках и сравнили с миниатюрными гравюрами в какой-то книге, потом разговор снова зашел о резьбе по янтарю…
— Порой мне кажется, что данцигские и кенигсбергские мастера смеются над нами, — сказал мастер Ребус. — Они не творят, а, я бы сказал, вытворяют. Будь я резчиком — мало радости бы испытывал, делая чашу, в которой никогда не будет ни цветов, ни фруктов, предназначенную для того, чтобы из рук одного чудака переходить в руки другого чудака, а чудаки будут спорить о том, на какую основу наклеен янтарь, как будто это имеет значение…
— Разумеется, больше проку от янтарных зажигательных стекол, — согласился Данненштерн. — Будете снова в Кенигсберге у Христиана Порчина — передайте ему мою благодарность, равным образом и за очки. Отшлифованы они великолепно.
— Мастер Порчин утверждает, что именно он изобрел янтарные стекла, и якобы до него никто янтарь в льняном масле ради прозрачности не прокаливал, — заметил Даниэль, — а я с ним спорить не берусь. Мне ведь и самому скоро понадобятся очки.
— Больше бы вы, сударь, варили в своих ретортах всякой дряни с ядовитыми парами! Удивляюсь, что вы еще не нуждаетесь в поводыре, — Данненштерн покачал головой.
— А я удивляюсь другому, — заметил аптекарь Мартини. — Все мы, господа мои, имеем собрания редкостей, в немалые деньги нам обошедшихся, но если сосчитать, что из вещиц воистину редкость, то пальцев одной руки, пожалуй, хватит.
— Что вы имеете в виду, сударь? — спросил судовладелец Ганс, которого Гансом звал, пожалуй, лишь Данненштерн, а для прочих был он Иоганн фон Добберманн.
— Взять хотя бы ту шахматную доску, которой вы так гордились, сударь.
— Чем не диковина моя доска? — обиделся судовладелец. — Теперь таких уж не делают! Было бы вам ведомо, что янтарные квадраты приклеены к дубовой основе, и она шахматная доска лишь снаружи, а изнутри сделана как положено для игры в трик-трак! Мне привезли ее из Кенигсберга, а сколько я за нее заплатил — пусть будет ведомо одному Богу.
— В самом деле, Давид, чем вам не угодила доска? — удивился Данненштерн. — Темный и светлый янтарь, из которого сделаны квадраты, имеют картинки, вытравленные на самом янтаре, а не на металлической фольге, которая подложена под янтарь! Уж это ли вам не редкость? Ведь при вас поднимали два квадрата, чтобы все мы в этом убедились!
— А я понял, о чем речь! — воскликнул Даниэль. Алена покосилась на него — не было принято в собрании знатоков редкостей так повышать голос. Впрочем, Даниэль делал немало такого, что вообще нигде не было принято, и всё прощалось ему, как огромному и обидчивому младенцу.
— Да, пожалуй, только вы, сударь мой, и могли догадаться, — одобрительно отвечал Мартини. — Итак можно ли поставить доску господина фон Добберманна в один ряд с моим превосходно заспиртованным двуглавым младенцем?
— Вы так гордитесь этим младенцем, точно сами его родили! — возмутился судовладелец.
— Нет, разумеется! — пылко заявил Даниэль. — Ибо доска — творение рук человеческих, а что сделано один раз, может быть сделано и дважды, и трижды. А младенец — творение…
— Допустим, дьявола, — вольнодумно продолжил Мартини.
— Угомонитесь, господа, — одернула всех Марта фон Данненштерн. — Или же отложите свой теологический спор до приезда пастора Глюка.
Ознакомительная версия.