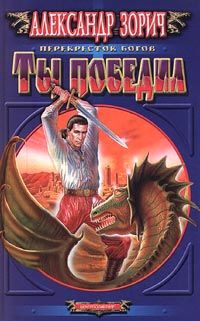Эгин стал снова разглядывать присутствующих. Среди сидящих на противоположном краю стола Эгин заметил того самого плешивого пастуха, который в конце весны надеялся разжиться золотишком из отрезанной руки Гларта. Надо же. Уцелел.
После разбирательства Есмар отвел плешивого и безымянного придурка в Ваю. Там его посадили в голодную яму, из которой его вынули, оказывается, сердобольные соплеменники. Вынули перед самым бегством из Ваи. Благодаря строгости Эгина, пастух, как особо важный преступник, был спасен Вицей впереди всех. А теперь, когда сбежавшие из Ваи жители вновь возвратились на Медовый Берег, заручившись милостивым разрешением аютцев селиться там до конца срока аренды, он возвратился вместе со всеми. Только никому уже не было дела до его шутейно-серьезного преступления в уезде, пережившем неистовство девкатры, подземные игрища шардевкатранов, разгул костеруких и всю остальную неразбериху.
«…И врагу, преисполнившись мужества зверского,
Показал, где Шилолова мать обретается…»
– нараспев декламировал Сорго, то и дело запрокидывая голову далеко назад, словно цирковой акробат, который вот-вот поймает губами падающую из-под самого купола грушу.
Эгин встрепенулся. Чего-чего? «Мужества зверского»? Или он ослышался? И про «Шилолову мать», кажется, было? Или он снова ослышался? Но переспросить не было никакой возможности, ибо за столом царила такая густая тишина, какую нечасто встретишь и в родовых склепах. Чувствовалось, что Сорго удалось не на шутку тронуть сердца слушателей и если кто-то сейчас осмелится задать хоть один вопрос, его наверняка зашикают как мужлана и невежу.
Эгин бросил взгляд на невесту – ее распирала гордость, а на глаза набегали пьяные, радостные слезы, которые она не находила нужным утирать. Ее мамаша, переодевшаяся по такому случаю в варанское платье, Сестра Большой Пчелы, «барыня Хена», сидела по левую руку от нее с блаженнейшим выражением лица, какое, наверное, бывает у просветленных горцев, достигших Страны Обильной Еды, за которой будет только еще больше счастья, а потом еще больше еще большего счастья, а вовсе не болезнь, не старость и не страдания в Проклятой Земле Грем. Эгин отвернулся. Подглядывать за счастливыми людьми – это все равно что подглядывать в щели нужника.
Даже горцы и те хранили почтительное молчание. Во-первых, потому что никто ничего не понимал. Даже Снах и его приближенные, поднаторевшие в варанском говоре за последнюю неделю, не понимали ничего кроме отдельных слов. (Правда, когда звучало имя Лагхи, а оно звучало с той же частотой, что и слова «жрать», «хорошо» и «счастье молодоженам!», они заметно оживлялись – за гнорром здесь определенно скучали). А во-вторых, потому что перед тем, как привести на гулянье в развороченную Ваю Детей Пчелы, Хена недвусмысленно дала понять им, что если они вынесут свой воровской кодекс доблестей за пределы своей кедровой рощи, то она будет очень на них сердита. А потому все до единого горцы, сидящие за столом, были озабочены решением головоломной задачи. Как украсть что-нибудь, что само просится в руки и при этом не рассердить Сестру Большой Пчелы. Да и возможно ли это в принципе?
«Мановеньем руки Лагха доблестный вызвал в подмогу нам
Корабли, что огромны и очень собой впечатляющи.»
Эгин невольно улыбнулся этому «очень собой впечатляющи». Это явно про варанский флот под предводительством Альсима. Правда, он прибыл, мягко говоря, к шапочному разбору, даже к самому окончанию шапочного разбора, то есть через неделю после десанта южан и выхода девкатра, и никакой «подмоги», воспетой Сорго, из себя не представлял. Но чего только не наплетешь в хвалебной оде, которую ты посвятил самому гнорру Свода Равновесия? Как сказал по этому поводу Альсим, «История еще оценит нас как победителей девкатра, спасителей Медового Берега и усмирителей Юга» и, похоже, был прав. Тенденция имелась. Но не было за столом ни Альсима, ни Лагхи, чтобы разделить с Эгином эти соображения.
«Сейчас они уже в Пиннарине», – подумал Эгин. Имя столицы вонзилось в самое беззащитное, мягкое подбрюшье его души острейшей ледяной иглой, ибо в нем, словно маленькая шкатулка в большой, содержалось другое имя – Овель. И с этого момента Эгин уже не слушал ни поэтических всхлипываний Сорго, ни собственных мыслей, ибо они пустились бешеным галопом вслед кораблям Свода, прямо по морю. Пустились в столицу, где Овель, незабытая чужая жена, прогуливается по Террасам, вышивает крестом, беззастенчиво лопает сладкий щербет и, возможно, иногда вспоминает о нем.
Смежив веки среди всеобщего веселья, Эгин просто сидел и думал о том, что ради этого «иногда», ради этого «возможно», нетрудно пройти весь путь от Медового Берега до Пиннарина пешком, с посохом и переметной сумой на плече. Что ради него можно инкогнито вернуться в столицу и простоять на краю скалы с видом на «Дикую Утку», место замужнего заточения Овель, сутки, двое, неделю. Что ради этого можно научиться летать и принимать облик Лагхи Коалары, разыскать ключи от империи сна, чтобы властвовать хотя бы над ее ночами. Что для того, чтобы отобрать у гнорра эту каштанововласую тень, чьи глаза вмещают в себя море Фахо так, что еще хватает места для зимнего неба, не жаль трех, пяти, десяти лет.
Издалека донеслись переливы аютских труб. Во временном лагере Гиэннеры, который был разбит выше по течению Ужицы – поближе к Большому Суингону, горцам и их медку – отходили ко сну лучницы, заступали на посты ночные дозоры, в объятиях своего странного мужа постанывала, должно быть, любвеобильная Куна-им-Гир, военный комендант Медового Берега. Мысль об аютцах, которые наверняка арендовали это проклятое, увы, место из-за меда, вернула Эгина к реальности.
Прежде всего, прежде Овель и гнорра, стояла для Эгина клятва, данная Авелиру. Завтра он, Эгин Светлый, должен идти и искать. Искать точный венец Черного Цветка, искать его силу и слабость, искать, как искоренить его. Впрочем, он, Эгин Светлый, уже слишком многое понимает, чтобы тратить дар Пестрого Пути на искоренение. Черному Цветку можно уготовить иную судьбу… Авелир был бы доволен.