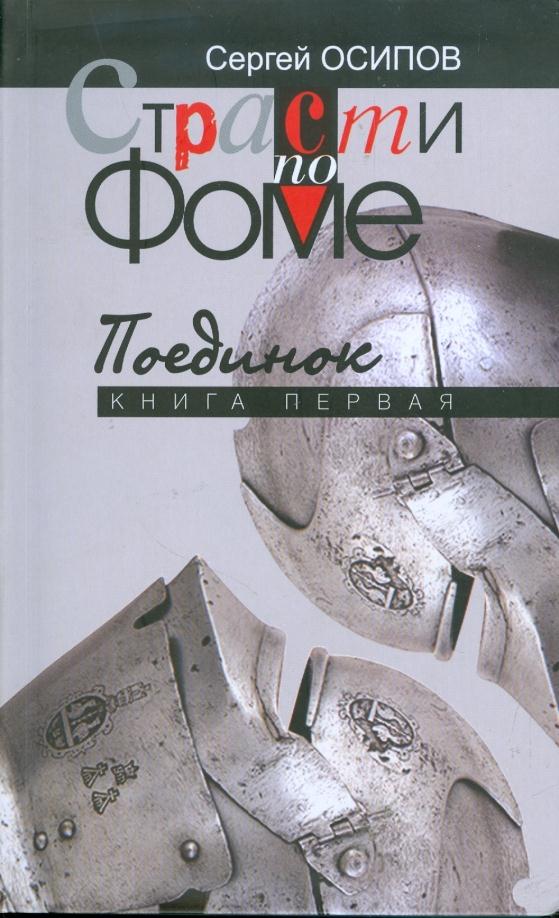как есть все равно было нечего. И все, главное, с ведрами — зачем?! — громыхание их не давало спать двору с первой звезды.
Откуда-то узнали, что во время захоронения у графа выпала изо рта монетка (насчет «выпадания» у Фомы было иное мнение, у него до сих пор оставалось ощущение, что во рту шевелятся чьи-то жадные пальцы); так вот, выпала монетка и её подобрал кладбищенский сторож, старик, отъедавшийся на могиле Фомы: банкеты и поминки продолжались и на погосте. Дряхлый старик, которого даже военные врачи признавали никуда не годным, бегал теперь вокруг могил, как десантник на серпантине, борода потемнела и стала лосниться, как у боевика, и сам он собирался жениться, да запутался в выборе. А его сын, лежавший немой колодой с самого рождения, встал и заговорил, да так забористо, что хоть святых выноси!
Враки, конечно, но народ ломился в полном томлении, гремя ведрами…
К тому же, мэтр Иелохим, опустившийся и обнищавший ловец кругов, память которого давно стала притчей во языцех, вдруг разбогател и вспомнил всех, кто был ему должен, хотя таких было неизмеримо меньше, чем тех, кому был должен он сам. Но старик еще не настолько поправился, чтобы раздавать долги. Изменился и мальчишка, его помощник. Из паршивого заброшенного сироты он превратился в довольно пригожего отрока, почти жениха, румянец которого, на появившихся щеках, вызывающе алел на фоне всеобщей голодной бледности.
И все это за несколько дней! Поразительно!..
По городу с осанной носили неизвестно откуда взявшиеся боевой лук и бумеранг, которые вдруг распрямились, после случайного прикосновения к ним графа Иеломойского. Вот так вот взяли и распрямились, с нами круглая сила! После этого все сомнения отпали, как язвы с кладбищенского сторожа. Вспомнили и о голове главаря разбойников Джофраила — он заставил ее говорить! Голову! Покойника! Отрезанную! Нужны ли еще доказательства?..
Нам — нет, мрачно переминался у ворот народ. Администрация же молчала, воодушевляемая собственной растерянностью.
А по всей Кароссе, как назло, пронеслась волна чудесных исцелений. Кто хоть раз прикоснулся, или хотя бы просто видел странствующего рыцаря вблизи и дышал с ним одним воздухом, вдруг почувствовали себя если не лучше, то во всяком случае иначе. Странный и неведомый смысл проявился вдруг в обыденных вещах — в жизни, например, она стала дорога без видимых на то причин, люди захотели жить, что, в общем-то, входило в сильное противоречие с действительностью.
Массовый психоз, отмахивались чиновники, но были и другие, не менее чудные и странные примеры. У Томаса трактирщика дела пошли в гору ни с того, ни с сего, а скрипач слегка прозрел на один глаз, что тщательно скрывал от публики, потому что слепой он мог скрипеть как угодно, что возьмешь с убогого?.. Разве не чудо? Какой такой психоз?
О Мэе уже никто не говорил, она расцвела просто ошеломляюще, и тут уж никаких сомнений не было — граф Иеломойский что-то с ней сделал! И все знали, что… и хотели того же. Ну, если нельзя того же, то хотя бы общего благословения. Да хоть бы вышел и осенил круговым знамением всю очередь, а то и весь город, сразу бы легче стало, ей-богу!..
Мэя действительно сияла и цвела. Она теперь много времени проводила у короля. Его величество чувствовал себя в ее присутствии много лучше, во всяком случае, когда она приходила, из головы его вылетали грозные апокалиптические видения, а в сердце наступала тишина и умиление, хотя само порфироносное тело страдало с каждым днем все сильнее. Фарон, не уставая, говорил, что это кризис, что кризис скоро пройдет и тогда все пойдет хорошо — к лучшему и у его величества, и у его народа.
После разгрома Скартовой канцелярии связь между ним и Джофраилом подтвердилась документально. Из этого стала понятна даже королю роль Хруппа. Правда, не сразу, чтобы осознать свою вину и заблуждения, надо примерно наказать за это окружающих, что и было сделано. Наиболее близкие к Хруппу и Скарту люди были поспешно казнены в перерывах между похоронами странствующего рыцаря, а народу было объявлено, что теперь-то уж все наладится. Народ, естественно, затянулся потуже: налаживалось, знаем!.. И оказался прав.
Гимайя, несмотря на жару и униженное ответное посольство, прервала перемирие и ринулась в ослабленную Кароссу через день после скандальной свадьбы покойника, как бы в исполнение дурных предчувствий казны и церкви, связанных с графом и его оживлением.
«Мы предупреждали! — удовлетворенно констатировали монахи. — Это черт!» Черт, не черт, а объявили дополнительную мобилизацию: от пятнадцати и… в общем, пока портки держатся. Народ заволновался, завыл по дворам, и еще сильнее стал выстраиваться в очередь к «святому» Фоме, полагая, что раз омолаживает и распрямляет гнутости, то белый билет — раз плюнуть…
Доктор появился, когда у Фомы немного перестала кружиться голова от очередного приёма его препаратов и он, сидя в ванной, находился в том состоянии, которое эскулапы называют послестрессовой эйфорией. Дыра, Синклит, Томбр Фоме были по колено. Все рассчитал славный Доктор, жизнь казалась Фоме презабавной штукой. Доктор был одной из них.
Он заявился, конечно, с новостями.
— Ну, иначе-то ты и не можешь! — заметил Фома, не теряя блаженного равновесия ни на секунду. — Хорошо, что Мэя у короля, а то от твоих новостей у несведущих крыша сползает…
У самого Фомы крыша парила и он был похож на мирно кипящую кастрюлю.
— Ну и что на этот раз? Куда мы бежим?
— Мы остаемся!.. — Доктор сделал паузу.
Фома продолжал кайфовать, наблюдая медленный дрейф своей башки и постепенное выздоровление всего организма, так что Доктор мог делать паузу, многоточие, лакуну или вообще заткнуться, ничего не могло обломать блаженного плавания их сиятельств.
— Да? — только и сказали «они», и начали пускать мыльные пузыри.
— Хрупп вернулся… — Доктор удобно расположился в кресле и закурил, отчего в Кароссе его считали опасным колдуном из Дымных Недр, в отличие от ненормального колдуна — Фомы.
— Теперь он переметнулся на сторону Гимайи. Сорванные переговоры его работа…
Дымные табачные кольца поплыли к Фоме, выстраиваясь