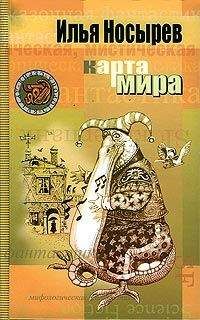— Лампа — для моих ушей, — пояснил Слепец. — Она заставляет говорить вещи, нас окружающие.
Два больших продолговатых блина, упрятанные под странный головной убор, выпали, ударив Слепца по плечам, затем, наполнившись кровью, поднялись торчком. Рональд слегка смутился. Потом сообразил, что с такими ушами Слепец стал чем-то похож на Розалинду, и усмехнулся.
Слепец повел ушами.
— Птицы поют, — сказал он. — И Рим совсем недалеко: торговые ряды шумят вовсю. А вон там, — он ткнул по направлению одинокого строения на горизонте, — Башня Играющих. Я слышу завывание ветра в ее коридорах. В воздухе словно струны невидимые натянуты, и гусляр то и дело задевает каждую из них пальцем. Музыка, которую рождают эти струны, и есть мир. Так я его слышу, а вижу — почти так же, как ты, но немного левее, что ли.
Рональд вынужден был признаться себе, что ни слова не понял.
— Я вижу тепло. Не тепло душ человеческих, но тепло их тел, тепло неодушевленных предметов: огонь костра, нагретую солнцем землю, горячую воду — да много чего еще. Ровно столько же, сколько видишь ты, а может быть, чуть больше. Тепло разлито в этом мире так же, как и свет — да тепло и есть свет: по крайней мере, так я его вижу. Я знаю, тебе, о Рональд, — ибо таково твое имя, не правда ли? — меня рекомендовали как слепца. Не привыкай к такому представлению обо мне, оно не только оскорбительно, но и ничуть не точно. Мы все слепцы, уж если на то пошло, ибо способны видеть дальше своего только в том, чем привыкли заниматься — иными словами, только часть солнечного спектра, а не весь его свет.
Он остановился и посмотрел на Рональда.
— Я так и намерен поступить, — заверил его рыцарь. — А как мне вас называть?
Мое имя — Иегуда. Можешь говорить мне «ты»: я не чувствую себя достаточно старым, чтобы ко мне обращались иначе. К тому же, многие отцы Церкви проповедовали скромность. В том числе и Св.Картезий[5], в монастыре которого я провел значительную часть жизни.
— Какими же видятся тебе люди?
— Людей я вижу стеклянными сосудами, внутри которых пылает пламя. Тепло их мозга есть свет разума; они прекрасны, как зажженные светильники, и всякий раз, когда я вижу собравшуюся толпу, она кажется мне стеклянным морем, исполненным огня — помнишь, о нем говорится в Откровении Иоанна?
Рональд, полуобернувшись, смотрел в черные, как бездна ночного моря, глаза Иегуды. Невольно он почувствовал уважение к Слепцу, к его непонятным способностям, которые Господь золотыми нитями вплел в картину мира с одной ему ведомой целью.
— Расскажи мне о своей жизни, — попросил Рональд, поскольку в рыцарских романах такой вопрос в лоб был чем-то само собой разумеющимся.
— Я вырос в монастыре Св.Картезия. Родителей своих я помню слабо, ибо мать моя привела меня пятилетнего к вратам монастыря, а отец Велизарий подобрал и воспитал.
Впрочем, другие монахи рассказывают, что отец Велизарий специально собирал таких, как я, под свою опеку. Родители мои признавали меня слепым, но это явно было не так.
С детства я видел предметы четко и ясно — просто иначе, чем остальные люди. Смешно сказать, но маленьким мальчиком я считал слепцами других, а не себя. Мне было лет пять, когда в нашем доме начался пожар. Мы с мамой шли с поля, когда я увидел, что внутри наш дом светится красным — и сказал маме: «Горим!». Мать шлепнула меня по губам: мол, не болтай невесть что — а когда мы близко подошли, огонь уже из всех окон лез. Так мы остались без крова над головой. В деревне услышали рассказ моей матери и признали, что во мне бес и пожар произошел от меня. Хотели утопить в реке — но мать не дала, а отвела к монахам.
Книг я читать не могу, но к наукам у меня страсть была великая, и отец Велизарий стал читать мне вслух и за два года обучил всем наукам, какие знал. Но он тоже учился у меня, мальчика: спрашивал меня, каким образом я вижу мир, и записывал. Когда я подрос и стал страдать оттого, что я не такой, как другие отроки, он сказал мне: «Внимай, о юноша! Господь все сотворил в премудрости своей, и каждой вещи в мире подарил ее место. И если он создал тебя и наделил тебя такими глазами, то сделал это с умыслом! Как бы то ни было, но я вижу, что перед тобой великое будущее. Ты окружен насмешками, в то время как я вижу, что ты прекрасен, разумен и велик. Возьми подобие от лосося — этой поистине премудрой рыбы: когда лосось идет на нерест, то движется вопреки течению; не видит он и не чувствует, что волны бегут ему навстречу. Ибо капли лишь бьют Друг в друга, а вода поражает саму себя, и ее волны есть не что иное, как ступеньки в ней. И подобно тому мудрому лососю, что отталкивается от капель, летящих ему навстречу, Должны мы отталкиваться от препятствий на нашем пути и Двигаться вопреки им».
Через два года он умер, а я, шестнадцатилетний, попросился у наставников моих в путешествие. И поистине, где я только не был: я видел бархатные города Востока, страшные льды Севера, я мыл ноги в великом Океане, опоясывающем круг земель, я наблюдал различные народы и слушал их рассказы о древних временах. И столь хорошо изучил я нравы жителей земли и столь дивно превзошел все науки, что сделался известным миссионером. Я входил в хижины чернокожих и обращал их одним лишь чудом, я произносил одно слово — и обращал в бегство отряды неистовых сарацинов, а догнав их, крестил не мечом, а радугой Завета.
Но шли годы — и все явственней я чувствовал, что не в этом было мое призвание, и нечто великое, шедшее ко мне, прошло мимо меня и теперь удаляется — и если я не брошу все мои дела и не побегу его догонять, то погрязну в тщете. Все чаще я задумывался об этом, и все хуже шли мои миссионерские дела: теперь я подолгу жил в черной Африке и обращал одного человека в год. Дикари надо мною уже смеялись и думали: а не отречься ли им от христианства и не съесть ли меня? Но ранее, чем они утвердились в этой мысли, меня спасли мои раздумья.
Меня всегда занимал вопрос, откуда именно пророки узнают, что обладают даром предвидения. Как так происходит — жил-жил человек и вдруг стал пророком? Добро, к нему еще явится ангел и прямо об этом скажет, но ведь так бывает далеко не всегда… Вот лжепророк Мухаммед, пусть он хоть и стожды нечестивец, не верил кому попало: когда архангел Гавриил явился к нему, он довольно долго сомневался, не посланец ли это сатаны. И ведь даже архангелу не доверял — а проверял!
Вот об этом я и размышлял, бродя вдоль нашей речки, в деревне, где жил. Проповедовать я больше не проповедовал и с некоторым беспокойством ждал того момента, когда эфиопы меня турнут. Видишь ли, сэр Рональд: пока я проповедовал, они, закоренелые язычники, хоть и ненавидели меня, но терпели-считали, что, по крайней мере, неверный занят каким-то делом, вполне понятным их уму. Но когда я перестал ходить по домам и донимать их рассказами о страстях Христовых, они насторожились и задумались, что здесь не так и что замышляет священник. А я все ходил и ходил вдоль речки и глядел в воду — весь день до вечера. А вечером шел домой и засыпал, моля Бога даровать мне знак.