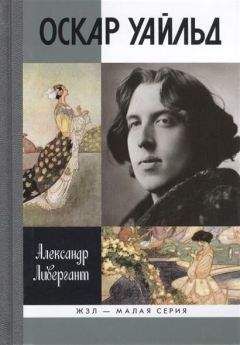Постукивает.
Легко-легко.
А мнится: мадридские кастаньеты вплелись в хор. И сразу зябко вздрогнули плечи, чуя дальний танец, стук лег на стук, вспенивая журчание мандолины памятью о ушедшей, почти забытой, – бывшей! – жизни, что стала болью памяти.
Спасибо за боль.
– …вокруг Вашей смятой постели
Поют и сражаются тени,
И струны звенят, и доспехи звенят под мечами…
Пусть Бог Вас простит,
Наша леди,
А мы Вас прощаем.
В последний раз скрипнула трещотка.
В последний раз отозвались тонкие пальцы на краешке стола.
В последний раз всхлипнула струна.
Все.
* * *
В тишине, в молчании покинула кресло Тамара Джандиери, кукла восковая. Спустилась с веранды, растоптала зелень травы, червонное золото листьев. Каркнула за спиной матушка Хорешан, следом порхнула – опоздала.
Вроде бы и медленно шла юная Тамара, плыла случайным облачком, а догнать-упредить не вышло.
Встала княжеская дочь перед Федькой Сохачем.
Тамара пред Демоном.
И ты, Княгиня, ты тоже опоздала. Все наоборот вышло; как в жизни не бывает, не должно быть. Твердо взяли девичьи ладони парня за щеки; наклонился Федор, себя не помня, к безумице; слились губы с губами.
Надолго.
Накрепко.
А когда опять выпрямился парень, то глянул туда, где звонким клинком взвилась у стола Акулька-Акулина, жена законная, любимая. Ревнивая – хуже Отеллы-мавра, каким его Томмазо Сальвини-отец играл. Кто в тягости? кто на сносях?! я?! да своими руками!.. задушу!
Плечами Федька пожал – аж жупан едва не треснул. Не виноват я. Веришь? И что сейчас делать, не знаю.
Не виню, возвратился молчаливый ответ. Верю. И отдать – не отдам.
Да только перехватила Тамара Джандиери те взгляды-разговоры на лету. Была девушка-красавица, умом скорбная, стала птица хищная. Вместо когтей, вместо клюва – нож серебряный, с ближнего стола подхваченный. Пошли они навстречу: рыба-акулька, чудо-юдо морское, зубастое – и орлица горная, клюв-когти во все стороны. Вовсе без ума пошли: к чему сейчас двум лютым бабам ум? слова? приличия?!
Не дойти Тамаре до врагини. Закружил отец дочку любимую; перехватил Джандиери кровь свою порченую на полпути. "Браво!" – смеется. "Ай да Томочка!" – смеется. "Наша кровь!" – смеется.
Гляди, Княгиня! – тебе б Акульку держать-успокаивать, а ты иного насмерть перепугалась. Никогда раньше не смеялся так полковник-Циклоп: взахлеб, себя хохотом расплескивая. Где и научился? зачем? к счастью, к беде ли?!
Гости вид делают, что все в порядке. Гости – они люди умные.
Им – разъезжаться, вам – оставаться.
Ваше дело.
* * *
Еще через час, когда беда поутихла, сыграла ты для гостей на мандолине.
Помнишь?
Чтоб языками в городе не трепали.
IV. ДРУЦ-ЛОШАДНИК или ЗВЕРСКАЯ ДАМОЧКА ПО КЛИЧКЕ "АКУЛА"
Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое;
и я буду иметь, что отвечать злословящему меня.
Книга притчей Соломоновых
Оказалось, в крошечном кабинетике отца Георгия вполне может уместиться еще один гость; вернее – гостья.
Впрочем, выяснялось это далеко не в первый раз, а сейчас Акулина, прежде чем уместиться, развила бурную деятельность. Вскипятила на кухне чайник (с самоваром возиться дольше!); заварила крепчайший напиток, привезенный Русским чайным товариществом «Караван» с далекого, почти сказочного острова Ланки. Сам батюшка не мастак был чаи гонять, заваривая какую-то невнятную траву, по цвету-вкусу более всего напоминавшую смесь ржавчины с древесными опилками – но вы с Акулиной это дело быстро исправили, наставив отца Георгия на путь истинный.
На столе, изрядно потеснив книги и папки с бумагами, мессией в окружении апостолов явились сахарница с колотым рафинадом, три цветастые чашки-купчихи, вазочка с вареньем, конфетница, за неимением конфет наполненная тминным печеньем…
В итоге продолжать прежний мудреный разговор о путях грешных и праведных, эфирных и неисповедимых, стало совершенно невозможно. Когда Акулина хотела, она умела быть самой милой, самой домашней, самой-рассамой, – со всеми своими чашками-вазочками-чаем-вареньем-печеньем; и строгий английский костюм не был ей в этом помехой.
"Играет девка, – думал ты, кроша в пальцах кусок печеньица. – Беду за еду прячет. Старого Друца на мякине провести хочет…"
Отчего-то (к добру ли?) на ум пришла Деметра-покойница, Туз балаклавский. Помнишь, баро?! – явился ты по первому разу к старухе, а тут тебе и чай, и к чаю, и сама Деметра ласковая-домашняя, хоть на хлеб мажь, вместо масла!
В точку попал: бери мага, мажь его…
Рыба-акулька, бедовая моя, что случилось? Отчего ты живая мне мертвого Туза напомнила?
Не отвечаешь?
Щебечешь? дуешь на горячее? Сыплешь историями из жизни возлюбленного зоосада? – где пропадаешь ежедневно по пять-шесть часов: и как лицо официальное, и просто по собственной душевной склонности:
– …представляете, отец Георгий – муфлона сперли! На мясо, небось. Вот ведь жиганы ушлые пошли! Управляющему зоосада доложили; он, как полагается, заявил в полицию; прислали городового. А я как раз зашла Фимочку проведать…
История мадагаскарского зеленого лемура Фимочки, найденого ошалелой Акулиной на помойке близ Москалевки, заслуживала отдельного рассказа, не будь она хорошо известна всем присутствующим.
– Подхожу к вольеру – и наблюдаю батальную картину маслом: городовой при исполнении! Осматривает место происшествия. Вольер, понятно, целый, следов особых нет. Рядом два служителя, Агафоныч с Поликарпычем, мнутся. Ну, городовой вольер осмотрел, в соседний заглядывает – а там два грифа бродят. Он изумляется: "Птицы ж! улетят к эфиопцам, а казне разорение!" Поликарпыч ему: "Хрена там улетят, у них крылья подрезаны…" "А у мАфлона крылья подрезали?" – интересуется городовой. Поликарпыч кашлять стал, посинел весь, а Агафоныч ничего, бурчит: "Никак нет, ваше усердие!" Городовой на радостях бланк казенный достал, планшетку подложил, карандаш чернильный послюнявил – и ну протокол составлять. Я не утерпела, заглянула через плечо, читаю: "Следствие по делу о хищении мАфлона прекратить в виду отсутствия состава преступления. Поскольку у вышеупомянутого мАфлона не были вовремя подрезаны крылья, и он улетел."
Когда вы с отцом Георгием отсмеялись, а Акулина-Александра сгрызла едва ли половину мелко наколотой сахарной головы, запивая это дело чаем (и никак не наоборот; вот ведь сладкоежка!) – ты наконец решился.
– Бог с ним, с муфлоном твоим. Другое поведай: отчего глаза на мокром месте? От чая ли отчаялась?
Твоя крестница аккуратно поставила на стол чашку: словно крутым кипятком, обожгла взглядом тебя, отца Георгия: