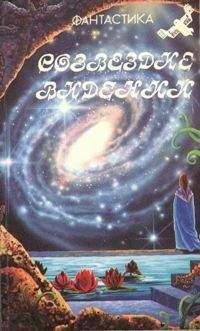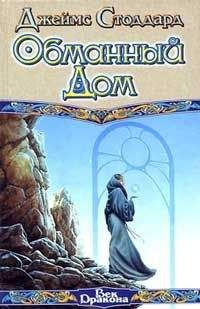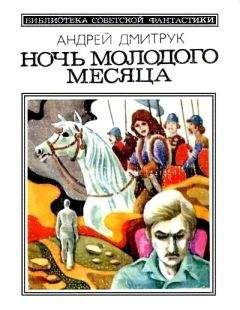Ознакомительная версия.
— Ну?! — вытаращилась потрясенная Настя.
— Вот тебе и ну… Может, одной на тысячу — удалось матушке сбежать из дворца Топ-Капы, да еще из города выбраться на корабле итальянском, — в уплату сняла все драгоценности, — да до родного села дойти пешком на сносях…
— Это как же?
— А так, Настюха… Носила тогда матушка меня грешного — и, слава Богу милосердному, успела, под родительской крышей выронила!..
— Так ты что?.. — задохнувшись не то от смеха, не то от изумленного вскрика, ладонью Настя зажала себе рот.
— Ага, — невинно вздохнул Еврась. — Сын султана. Можно сказать, турецкий королевич. Ежели помрет мой папаша в Высокой Порте,[8] а прямых наследников не окажется — пойду отвоевывать себе османский престол…
— Так вот почему ты темный такой! — догадалась Настя. — И брови, что крылья ласточки… Ты хоть по-турецки-то умеешь, королевич?
Еврась помолчал, вспоминая, а затем вдруг рявкнул, выпучивая глаза:
— Падишахам чок яша! Каар олсун кяфирляр!
— Это что значит?
— Слава падишаху, — пояснил Чернец. — И, понятное дело, смерть неверным…
— Получается, аж страшно!..
— Ладно вам, дети! — урезонил их Степан. — Кто чей сын, невелика важность! был бы человек добрый, это главное… К тому же, предки твои султанские хоть пили-ели сытно, так что и напасти у тебя не будет такой, как у Щура, то бишь у пана Щенсного!…
— Ты о чем, отец? — не сразу понял казак.
— Да о том, что видел ты ночью в панском доме… Уж такое наказание Господь послал Казимежу за то, что все людское попрал, шляхетство свое липовое добывая. Чуть пан за стол, все деды-прадеды нищие, голодные в его теле просыпаются и еды себе требуют…
Забарабанили копыта, и чей-то голос за стеною позвал:
— Пугу, пугу!
— Все, пора мне! — вскочил Еврась, пистолет заткнул за пояс, подвесил саблю.
Настя так и подалась к нему, руки несмело протянула; Чернец мимоходом обнял, чмокнул в макушку, будто старший брат:
— Отца береги!
Укатился копытный цокот, и Настя с громким плачем бросилась на грудь Степана…
Из-под мешковины достали серые молодцы по странному инструменту: сбоку была на нем рукоять, а спереди торчало немалое стальное сверло. Завертев пухлыми лапищами рукоятки; с пронзительным скрежетом вгрызались безликие сверлами в скалу… Минуты не прошло, явились в гранитной скале круглые, глубокие, точно исполином-дятлом выбитые, проемы. И заложили медлительно-уверенные работяги внутрь отверстий матерчатые колбасы с веревочными хвостами, а хвосты эти подожгли…
Крестьяне и надсмотрщики, с боязливым любопытством усеяв насыпи, ожидали, что будет… Безликие ухватисто взобрались на берег, присели.
Гром сотряс землю, в густой разбухающей туче пыли закувыркались обломки гранита… Шарахнулся народ, охваченный ужасом. Седой мастер стоял у своей кибитки, скрестив руки на груди; волною воздуха сорвало с него шляпу, но он не пошевелился, не сморгнули глаза без белков.
От первого взрыва не рухнул каменный кряж — но заколебалось, крупною рябью пошло озеро, парусами вздыбило листья кувшинок…
Повалил от воды не то пар, не то туман; струями, прядями виясь прихотливо, просочился между соснами, коснулся людей. И — чудо! — в белом мареве проступили очертания страны непостижимой, бескрайней. Будто бы уже не десятки, не сотни, а целое море людей, оборванных, изможденных и грязных, кирками да лопатами долбит мерзлую неоглядную равнину, толкает одноколесные тачки. Вьюга хлещет их колючими снегом; надсмотрщики в добротных одеждах с меховым воротом подгоняют рабов пинками и ударами ружейных прикладов. Вот кто-то на краю снегового поля, где стынет неподалеку угрюмый бор, срывается бежать — но рвут его, валят наземь большие остроухие собаки. В другого беглеца закутанный охранник выпускает череду пуль, словно из казацкой органки…
Вечер настает, знойный закат под снегами. Немые рабы подбирают замерзших насмерть, звонко-твердых, как бревна, и наваливают их на повозку с высокими бортами. Сотрясается повозка, в кою не впряжены волы или кони, рыча зажигает два огненных глаза — и сама трогается с места. Сумерки падают на равнину в истоптанном снегу, на бредущие многотысячные колонны; на ложе великого, прямого, словно луч, канала…
Нахлынуло от Днепра дуновение, проясняя мозги, разгоняя думку; успокоилось озеро, обычная рябь сморщила его.
И увидели все: ни взором, ни слухом не лриемля пророчества, опять у скалы возятся серые увальни, скрежещут нестерпимо сверлами; а мастер наверху помахивает руками в перчатках и бормочет нараспев неведомую молвью.
Но медным горном заржал конь, и вынеслась из лесу казацкая ватага, сабли над шапками, во главе с неистово скакавшим длинноусым.
Встретясь с врагом заклятым, но привычным, бесовщиною не пахнущим, оживились серо-зеленые, бичи сменили на верные клинки и, взлетев в седла, с гиком повалили наперерез. Первый зловещий лязг разнесся, над вырубкою, первые багряные брызги оросили песок; плюхнулся, раскинув руки и ноги, обезглавленный панский горбун… Часть нападавших, обойдя месиво схватки, устремилась прямиком к мастеру. Но тот как стоял, так и сгинул… Пара всадников сгоряча сорвалась в канал; другие, остановив коней, попрыгали сами, желая добраться до безликих.
Ни на миг не прекращая работы, не оборачиваясь, те вкладывали новые пороховые колбасы, готовились поджигать… Сабля полоснула одного из них по темени; серый оплыл комом теста, запрокинулся. Сползла мешковина — и, зачуравшись, отпрянул ударивший казак. Вправду не было лица у бесового работника, ни волос, ни глаз, ни ушей — бесцветный обмылок человека, даже без крови в сабельном разрубе… Цепенея от жути и отвращения, стараясь не глядеть, перекололи казаки нелюдей. И те, словно вправду мыло, расползлись в воде, пошли дурной пеною, лишь серое тряпье колыхалось.
Из ничего, из воздуха пустого раздался голос чародея, истошным воплем — тарабарское заклинание. И осадил коня молодой смуглый всадник; и грозно занес клинок.
Большекрылая тень, пронесясь над верхушками сосен, скользнула прямо к Еврасию. Завертелся, крупом забил жеребец; еле сумел сдержать его Чернец, но сам вздрогнул и опустил саблю, разглядев, кто падает на него.
Не птица из арабских сказаний, что слона может унести, — во всем сиянии своей красы, раскинув широкий плащ, летела пани Зофья. Навстречу ей светлел улыбкою влюбленный казак: понял теперь он, кого под Троицу спас, намочившую в Днепре платье; кто прошедшею ночью вырвал его из демонской паутины… Вот сейчас обнимет он милую летунью, и кончится проклятое наваждение!
Ознакомительная версия.